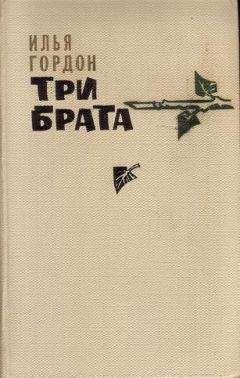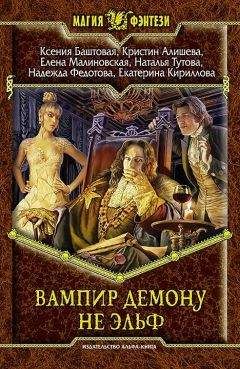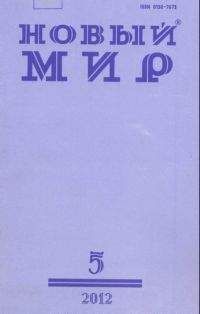Михаило Лалич - Избранное
Дважды вокруг меня сыплет лютая шрапнель. Во рту кисло, в горле першит. Я закашлялся, но мой кашель обрывает резкий удар. «Меня — по морде?! — возмущаюсь я и со скрипом сжимаю зубы: — Зарежу!» Поворачиваюсь: в воздухе висит столб земли. Видо, укрыв голову, лежит в овражке на боку. Встряхиваю его, поднимаю.
— Что с тобой?
— Левая.
— Что левая?
— Не знаю, не могу встать.
— Сломана?
— Не знаю, вряд ли, но ты молчи, не надо меня к раненым.
Я тащу его в укрытие и оставляю, у меня нет времени о нем думать. Мелькает лишь мучительная мысль, то же ждет и меня. Артподготовка окончилась внезапно, и началась атака. Чтоб не подумали, что нас мало, надо погромче кричать и быстрее стрелять в настырно лезущие кресты. Я бросаю обе гранаты, чтоб больше на них не рассчитывать, хватит, в конце концов, экономить! Выпускаю обойму из пистолета и выскакиваю из укрытия, чтобы бить прикладом. Кто-то с силой тянет меня за куртку вниз. Заработала «бреда». Черный бьет из автомата, точно сеятель, невидимый в тумане. Чаушевцы поворачиваются и бегут. Некоторые ползут на брюхе, сверху их, точно гвоздями, приколачивают к земле пулями русские. У нас патронов нет. Смотрим на Мурджиноса. Он сидит, обхватив руками голову, может, спит. Надо куда-то уходить, ждать здесь больше нечего. Но если он не хочет, не надо — и без того мы устали.
III
Пока противник готовится, высчитывает при помощи приборов и карт, где и как забросать нас снарядами, тишина становится все напряженней и зловещей. Ни голоса, ни выстрела, чувствуется, все дошло до предела. Но что-то кроется и в этой тишине: будто с обрыва осыпается мелкий щебень, вроде бы шум шагов. Наши прикладывают к ушам ладони, вслушиваются, озираются: шум доносится сверху. Если нас окружили, то, как говорится, раздумывать не приходится. Две тени перелетают через овражек, скользят, одна за другой, вниз по откосу, прокатываются через убитых, на минутку задерживаются над торбами и патронными сумками и, кажется, повисают над раскоряченными ногами и отброшенными в сторону винтовками. Жду рева самолета: вместо него, как в насмешку, каркают вороны. За ними летит целая стая. Откос рябит от быстро мелькающих теней. За воронами спешат и другие птицы. Последними проносятся с чириканьем две волны воробьев. Догадываюсь: из леса, что у нас за спиной, бежит все живое перед надвигающейся на нас опасностью. Что ж, бог с ней, пусть движется, мы взяли наперед все, что нам причиталось.
На откосе перекликаются двое русских, потом доносится оживленный гомон, в котором не улавливаю того, что жду. Напротив, русские нашли повод для веселья. Лучше бы им притаиться до первого залпа, а потом уже шуметь. Знают и они, что лучше, но порой на них находит приступ какой-то лихости, когда им милее посмеяться над опасностью, чем бить ее по зубам.
— Не стреляют, — говорит Влахо. — Что с ними сегодня?
— Маврос! — заявляет Григорий, оставаясь за пулеметом.
— Что Маврос? Где Маврос?
— Подходит!
— Это они гам наверху говорят?
Григорий кивает головой.
— Ты хорошо понял?
— И ведет подкрепление, — и Григорий рукой показывает, с какой стороны.
Смотрю на него: не шутит. Он никогда не шутит, и лицо у него всегда невозмутимое. Если верить в то, что говорит, то почему он не радуется? Хотя бы за раненых, если не за нас и не за себя, — нет, Григорий не развеселится и тогда, когда доберется живым в свой родной колхоз на Волге — слишком много страданий выпало на его долю.
Сверху никто не появляется, но что-то произошло, и все это знают. Греки один за другим встают, лица в копоти, без кровинки, губы потрескались, рот с обнаженными клыками, подобие улыбки. Это вся их радость — усталая и нельзя сказать, что красивая. Похудели они и подурнели. Вуйо и Черный переговариваются знаками и сбегают под откос к убитым. И только когда они начинают снимать с них патронташи, я соображаю, что там, возможно, есть и гранаты и другое оружие. Бегу и я, едва передвигая ноги. Я здесь не один. Притихшие было раненые скулят от страха.
Я выбираю неподвижное, бездыханное тело, с кровавым месивом вместо лица, ему я уже не могу сделать больно. Отстегиваю ремни с патронташами и, чтоб не терять времени, сую в торбу. Избегая смотреть на кровавое месиво, поворачиваюсь, чтобы уйти. Рядом лежит раненый, он смотрит на меня и щерит черные зубы:
— Неро!
— Нет воды, нет неро! И сам бы напился.
— Неро! — упорно твердит раненый. — Неро! Неро! Неро!.. — Протягивает ладонь, просит.
На ладони карманные часы с короткой цепочкой. Это он мне предлагает за воду, догадываюсь я и в ужасе прячу руку за спину. И, в гневе забыв, с кем и где разговариваю, ору:
— Нет у меня воды! Откуда у меня вода? Все мы страдаем от жажды, все, понимаешь? Нет! Нет! Дал бы тебе даром, не стал бы торговать.
Протянутая рука опускается. Часы выскальзывают из судорожно сведенной кисти на землю. Раненый лежит, закрыв глаза. Губы шевелятся, он перебирает пальцами. «Щупает, — думаю я, — еще скажет, что я его должник, взял у него часы, как запросто взял бы он у меня или у кого другого. Да так и подохнет, унеся на тот свет на меня обиду». И хоть я не верю в существование того света, поднимаю часы и кладу их в судорожно сведенную ладонь. Часы снова соскальзывают на землю…
Тупой хлопок пистолетного выстрела где-то рядом вычеркивает его у меня из памяти. Я оглядываюсь: Влахо Усач, держась рукой за живот, с удивленным лицом пятится и как-то боком опускается на колени. И только тогда, кривясь от боли, выдавливает:
— Бей его, чего смотришь, Нико! Ослеп, что ли?
— Кого?.. Не вижу.
— Он тебя видит, как и меня. Посторонись. Беги! В тебя целит.
— Куда бежать?
— Куда хочешь, в сторону, быстрей!
Я озираюсь, вроде и не сплю, а похоже на сон. Разница лишь в том, что во сне каким-то образом все всплывает на поверхность, тут же ничего всплыть не может. Бежать просто, очертя голову, причины нет, да и не нравится мне это вовсе. Пистолет мой наготове, палец на гашетке, но я не знаю, куда стрелять. Неподалеку лежит на животе труп с небольшим горбом, уронив голову на ладони, длинные черные волосы закрывают ему лицо. Другой, за ним, лежит на спине, он может стрелять только в небо. Всадить каждому по пуле и снова их убить?.. Косматая голова чуть сдвинулась, из-под черных волос блеснул никелированный «вальтер»… Влахо стреляет. Над разможженными руками поднимается голова, волосы забрызганы кровью — сплошь кровавое месиво. Качая головой из стороны в сторону, он визжит. Целюсь, чтоб его добить, и чувствую, как дрожит у меня рука. Мне не страшно и нисколько его не жаль, напротив, я спрашиваю себя: зачем сокращать ему страдания? Пусть остается так лежать, проклиная себя и служа предостережением для других.
— Погоди-ка малость! — говорит Васос, он знает, что делать.
Подходит со спины, замахивается и бьет изо всей силы прикладом по затылку. Голова зарывается носом в песок. Из-под нее поднимается облачко пыли. Мозг червивой массой выступает на волосах и попадает на приклад. Васос вытирает его о землю, смотрит, не осталось ли следов, и снова вытирает его о китель мертвеца — приклад чистый. Мы подходим к Влахо. Он лежит на боку, запрокинув голову.
— Куда тебя ранил?
— В живот, кишки вроде не задело. Выдюжу, останусь живым.
— Само собой, не так-то просто уйти с этого света.
— Напрасно только сливы съел…
— Пустяки, всего три штуки.
— Лучше бы ничего не есть.
— Ни черта тебе не будет.
— И я думаю, обойдется, но на всякий случай возьми мою бритву — пригодится. И блокнот из кармана возьми, там все, что надо, записано. И отнесите меня отсюда, тут уже воняет.
Васос приказывает двум грекам, что постарше, отнести Влахо. Положили его на одеяло. Прощай, Влахо! Если доведется, встретимся, а нет, что поделаешь. С безоблачного неба безжалостно палит солнце. В его ослепительном блеске недвижимо висит дым, наверное пороховой. Он ест глаза, и я, точно в тумане, спотыкаюсь и забываю, в какую сторону идти. Действительно, воняет, и не только трупами, но и порохом, испорченным салом и паленой шерстью. А к тому же нет-нет да понесет вдруг смрадом кишок. Надо поскорей удирать. Иду вниз, не потому только, что туда же направляются и другие, просто так легче идти. Лезть в гору, пусть бы даже меня тащили, я не в силах. От усталости не могу поднять головы. Не могу и смотреть, даже противно смотреть. По шуму шагов определяю, куда идут другие, и тащусь за ними. Тем-то и хорошо идти в колонне: не надо ни смотреть, ни думать. Можно на ходу подремать и даже поспать, всегда найдется кто-нибудь, чтоб тебя остановить или потянуть куда надо.
Ну вот мы и добрались, воздух стал почище, и дышится легче. Откосы, точно ступени, спускаются к равнине, откуда доносятся ароматы пшеничных полей. Настают минуты просветления, когда я, как мне кажется, узнаю местность. Откуда я тут все знаю? Здесь мы проходили прошлой ночью, а думается, было это так давно. Карабкались на заре, и желание забраться под ветки и поспать пять минут, точно боль, пронизывало мне мозг. Это Душко сказал, пять минут, а я согласился, что больше и не нужно. Колонна же двигалась дальше, и мы вместе с нею. Минометы бьют куда-то через нас. Гвоздят по горе с мертвецами, не нравится им ее красный цвет, это он во всем виноват. Затрещали и пулеметы, молчит только наша «бреда», должно быть, опять испортилась, а Душко, чтоб ее исправить, нет. Отдыхает Душко, прилег на пять минут, чтоб появиться потом под другим именем и в другом обличье. А мне надо перебегать через поля, падать, стрелять, перескакивать через стены межей и канавы с мокнущей в них коноплей. Нет Вуйо, нет Черного и Григория, в суматохе потерял и Васоса. Иду с незнакомыми, для них я чужак, но это мне нисколько не мешает, только бы куда-то идти.