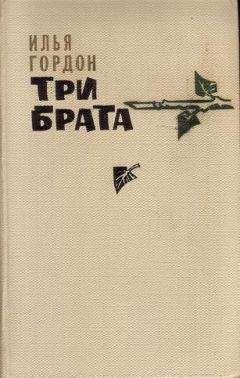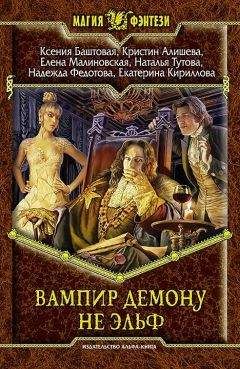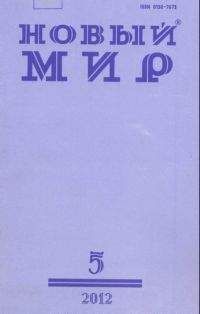Михаило Лалич - Избранное
Ну вот, этот больше не вернется.
II
Убит Душко Вилич, осталось только его тело: плотно сжаты губы, глаза закрыты, брови наводчика нахмурены. По лицу видно, или мне так кажется, умер он усталый и злой на людей. Если усталый — отдохнет, а что злой — на то есть причина: отдал все, что имел, а мир ни на йоту не исправился.
Сидим всяк в своем укрытии и поглядываем на него. Надо что-то делать, как можно скорей с ним расстаться, чтоб не напоминал нам о том, что нас ждет, но никто не знает, с чего надо начинать. Во всяком случае, не с речей, такое всегда получается бледно и фальшиво. Нет места и слезам: слезы — вода. Григорий расстилает на полянке одеяло. Мы поднимаем тело, молча кладем на подстилку и тем отделяем от нашего круга и как бы освобождаем от наших переживаний. Его больше не могут ни ранить, ни взять раненого в плен, ни отвезти на дунайский остров, ни травить собаками. Я взялся спереди, Григорий сзади — тяжелый Душко, детина хоть куда, — и понесли, покачиваясь под его тяжестью. Приостановились возле Мурджиноса, подходят греки, глядят, шепотом произносят его имя, словно еще надеются, что отзовут его с той стороны; вспоминают, как чинил пулеметы, хвалят:
— Механик, мастер, лучшего не сыщешь.
Чуть в стороне дорожка поднимается к оврагу. Три грека и один русский уже лежат там рядышком. У двоих открыты глаза, и мне кажется, что они ожили — скрипят зубами и проклинают, проклинают каждый на своем языке.
Знаю, что мертвым несвойственно проклинать и ругаться, но когда приходит такой безумный день, чего только не бывает. Смотрю на них: лица неподвижные, а брань все еще несется. Вспоминаю, где-то тут укрыли и раненых. Тороплюсь поскорей уйти, но они замечают меня и зовут. Хотят, чтобы кто-нибудь возле них побыл, просят пить. В голосах слышен страх: они ослабели и не могут с ним совладать. Выхожу из оврага, их почти не слышно. Опускаюсь на землю, чтоб передохнуть от всего этого. Среди травинок пролегли белые дорожки, по ним спешат муравьи, они встречаются и расходятся.
Я читал, сам уже не помню где, что муравьи жестоки к своим раненым и изувеченным собратьям. Берут пример с природы — она безжалостна к слабым. Жалость присуща только человеку, да и то не каждому и не всегда. Милосердие — еще одно отступничество от природы: как любовь, как песня или героизм и многое другое, свойственное только человеку. Да и сама идея Царства Свободы — бунт против природы, бунт, безнадежней всех прочих, а мы сделали выбор и гибнем за него…
Григорий встает и устало бредет прочь. Пока мы идем до своей позиции, нам навстречу доносится приглушенное бормотание чаушевцев и паоджисов, которые подобно погашенным маркам приштемпелеваны к обрыву. Сначала они притворялись мертвыми и терпеливо ждали, что их выручат, но теперь уже не надеются. Сквозь неясный говор можно понять, что они просят пить:
— Воды!.. Кашпо воды!.. Льиго неро!.. Воды!..
— Сакра, сакра, сакра… — клянет одиноко среди них немец.
— Воды!.. Льиго… льиго!..
Опускаюсь рядом с Видо. Закрываю глаза, а голоса звучат. Они заливают и заполняют все, как болотные испарения, — завидуют мне, что я еще жив, преследуют меня, мстят. Они слабеют, хрипят, становясь неразборчивыми и сиплыми, и все-таки до конца не жалеют сил, чтоб отравить мне жизнь. Слов разобрать нельзя, или я их не знаю, но мне чудится, что их понимаю, они молят о милосердии, спрашивают: человек без жалости — человек или животное без прошлого и будущего, как и всякая другая скотина? «Все напрасно, — отвечаю я себе, — наши раненые тоже умирают от жажды. Да и у нас внутри все перегорело. Воды нет, а и была бы она, мы не смогли бы вам ее принести, не допустили бы ваши. Такова война, она не знает жалости, казнит милосердие, не позволяет человеку быть человеком и толкает на путь зверя, без прошлого и будущего, она кровожаднее всех…»
Русские с откоса кличут Григория и Михаила, их зовы заглушают стоны жаждущих, разгоняют сон.
— Идите сюда, — зовут они своих. — Вы нам нужны!
— Зачем? — спрашивает Григорий.
— У нас убитые, нужно пополнение.
— Знаю, — кричит в ответ Григорий. — Здесь тоже!
Как обычно, они дерут глотки, когда хотят договориться, но при этом не уступать. Возникает сдобренная бранью перепалка, спорят искренне, убежденные в собственной правоте. Как дети. Да они и есть дети — каждому из них нет и двадцати пяти. Когда человек перестает быть ребенком, он совсем другой. Успокоились, видимо, отступились, и вдруг доносится голос их командира:
— Если вернешься, дам тебе пулемет!
Пулемет — причина серьезная: человек с пулеметом быстро может отомстить за себя и за близких товарищей, а если повезет, то и за других. Гриша нерешительно поднимается. Разошлись они как раз из-за пулемета, все прочее несущественно и быстротечно. Наступает пауза. Видо первый чувствует опасность и торопится уговорить Григория.
— Скажи, что у тебя и здесь пулемет, вот, бери, я буду твоим помощником. Садись за него, если хочешь.
— Пулемет, пулемет! — кричат сверху, чтоб заманить Григория.
— Есть у меня пулемет, — отвечает он и в доказательство садится за него.
Тогда они напоминают, что он русский и потому должен быть с ними.
— Не все ли равно, с кем быть, враг у нас один и судьба общая и здесь и там, — отвечает Григорий.
Наконец они устали и умолкли.
И я бы так ответил, если бы кто-нибудь меня спросил, не все ли равно, что здесь погибать, что там, тот же голод, та же смерть, те же боли, та же земля и те же черви. Вроде бы я что-то здесь делал и, кажется, везло больше, чем там: моя злая мать Черногория не больно милостива к своим детям, которых прогнала от себя и которые снова пытаются к ней вернуться. Мои заслуги нигде не записаны, никто их не запомнил, и свидетелей не осталось, и нет у меня доказательств. И не нужно!.. Никто не может меня укорить тем, что я борюсь за свое доброе имя, что собираю очки для карьеры, не хочу я властью и неправдой отягощать душу. Если я еще на что-то надеюсь… впрочем, сегодня я уже не могу сказать этого. Даже не надеюсь, а просто хочу отыскать Миню Билюрича или хотя бы узнать, где он и как он, — и не ради собственной утехи, и не ради надежды получить от него поддержку, я нашел ее в самом себе…
— Вон, на горе Черный, — говорит Вуйо.
— С ума спятил, — возмущается Влахо. — Нет ему другого пути, как через гору!
— И русский с ним, Михаил.
— Несут что-то.
— Догадались бы притащить воды.
— Догадливый по голому месту не попрется.
Граната взорвалась перед Черным и заслонила его вспышкой красного огня. Другая взорвалась за Михаилом, отрезая отступление. Мы дважды замечаем среди фонтанов земли их мечущиеся взад-вперед фигуры. Зажали их в клещи, останутся от них мелкие клочья. Да их, наверное, уже и нет, вместе с торбами, флягами, с хлебом и луком, что выпросили у пастухов. Так по-глупому погибнуть! Нечего будет и оплакать — хоть это и неважно. Трижды Черному говорил — и как об стенку горох, смотрит только и вертит головой: «Легко тебе!» — «Что мне легко?..» — «Тебя не объявили дезертиром, а что еще хуже, это правда…» И уходит он вовсе не ради еды — больше принесет, чем сам съест, — просто не может усидеть на месте. Мало ему ходить с батальоном, бродит и после, один или с Михаилом. Развлечься ему, дескать, надо: когда ходишь, некогда вспоминать и думать, что было и будет. Вот и пусть сейчас не думает!.. Взрывы не прекращаются, стирая все в порошок. И следа от них не останется.
Когда я уже окончательно убедился, что их разнесло в мелкие клочья, они появляются живые и невредимые. Виновато улыбаются, как напроказившие школьники, которые привыкли, что им прощают, хоть и знают, что однажды уж не простится. Улыбки их гаснут при виде Мурджиноса, мертвых в овраге и Гриши за пулеметом.
— Убили Душко, — говорит Черный.
— Как это ты догадался? — ворчит Вуйо. — Выходит, нет его больше.
— Мучился?
— И не почувствовал.
— Хорошо, хоть сразу.
— Будет еще и по-хорошему и по-плохому!
— Вот мы принесли, берите, чтоб не оставалось на семена.
И, словно против чего-то протестуя, снимают торбы и бросают их к ногам Влахо Усача — он мастак по дележу. Хлеб, лук, маслины, но мы про все забываем при виде зеленых слив, сок которых — лучшее спасение от жажды. Влахо сначала пересчитывает сливы и дает каждому по три, а раненым и Мурджиносу по четыре. Михаил вспоминает, что у него фляга с виноградной водкой, взбалтывает ее и тоже передает Влахо. Водку решают отдать раненым, и Влахо тотчас передает ее Мурджиносу, чтоб, чего доброго, не попала в длинные руки. Черный снимает с пояса свою флягу, отпивает глоток и пускает ее по кругу. Влахо отделяет хлеб и лук грекам, отделению русских и, наконец, нам. Доходит черед до маслин, и тут черт дернул немцев перенести огонь, и снаряды начинают поднимать пыль у водороины. В воздух летят то шапка, то голова, то труп. Кто просил воду, получил свинец и умолк. Завеса дыма, песка и пыли ползет к вершине. «Нас нащупывают, — думаю я и скорей проглатываю сливы, чтоб даром не пропали. — Ищет медведь, чтоб сплясать перед нашим домом. Зароюсь-ка я в землю по самую шею, а голова пусть пропадает!..»