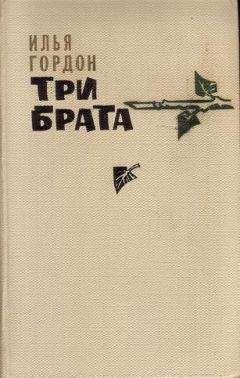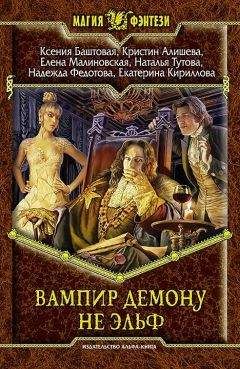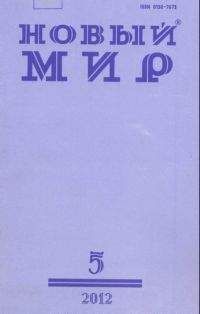Михаило Лалич - Избранное
— Знаю, был я и там, где день длиннее года. И Нико тоже был, спроси его.
С нами идет сапожник из Салоник, тот самый, что говорил на могиле речь. Верней, мы его сопровождаем, и это главная наша задача, а потом уже все другое. Он довольно приятный человек и весельчак. В течение двух часов он сыплет как из рукава анекдоты. Это преимущественно веселые приключения с фашистами, которых ловили в салоникских курятниках. Раза два засмеялся даже Григорий, а такого еще никто не запомнил. Под шутки-прибаутки, как под гусли, шагаем беззаботно и напоминаем не партизан, что пробиваются в опустошенный войной вражеский тыл, а веселую ватагу сорванцов, которая бродит по ночам и ворует арбузы или виноград. Почему бы и нет, если он уже начинает поспевать?.. Хочется человеку отвлечься от бесконечных засад, стрельбы и отступлений, стало ему скучно до тошноты. Нам повезло, по крайней мере так думали в батальоне и даже нам завидовали, поскольку мы избавились от длительного отдыха, напоминавшего карантин.
Прохлаждались мы около недели, даже чуть больше. Видо и Влахо за это время поправились, выписались из госпиталя и пришли к нам. Отдых, собственно, запланирован не был. Бригаду готовили к переходу через Стримон и к вторжению в районы Серрэса и Драмы; и тут что-то не получилось с переходом: то ли неудачно выбрали место, то ли нас обнаружили и готовились устроить кровавую баню — во всяком случае, ждать нам осточертело. Чтобы скоротать время, мы ходили по селам, где распевали песни и кричали «ура» перед портретами Сталина и Сарафиса [43]. Охрипнув, не знали, что делать дальше. Мы ели и спали, загорали на солнце и спали, чистили оружие и спали, били вшей и спали. Спали в густой тени каштанов и редкой тени маслин, дремали у развалин, в кустах, в пещерах и на утесах, глядя на море. Отоспались за все бессонные ночи и выспались на месяц вперед. Наконец сон стал для нас синонимом скуки, а отдых — мучительной расслабленностью. Единственным нашим развлечением оставалось критиковать еду, но и это надоело.
Несколько дней тому назад крестьяне привели из Саиты Стевицу Котельщика. Вся кожа у него была вытатуирована колючками ежевики, в которой его нашли. Кроме кожи, костей, копны спутанных волос и нескольких связанных друг с другом тряпок на теле, был еще и повидавший виды обрез с пятью патронами в магазине. Стевица бежал еще до нас из давломельского лагеря и оказался в краю озер. Фашисты напали на их партизанские группы, которые действовали северней церкви св. Николы и в окрестностях Сиврии, тогда же, когда и на нашу бригаду. Отступали к Карабунару, потом к Бекирлию. Бились не щадя сил, бились и после, и вдруг исчезли. Единственный живой свидетель, Стевица по прозванию Котельщик, полагает, что остались раненые и, подобно ему, прячутся в зарослях ежевики да в овражках. Начальство забеспокоилось и решило предпринять поиски. По ряду причин выбор пал на Мурджиноса.
Стевица хромает, он устал и дремлет на ходу. Чтоб не заснул, Черный и Вуйо засыпают его вопросами:
— Ты чего себе такое имя выбрал: «Котельщик»?
— Не имя это, а прозвище.
— А почему котел?.. Родич у тебя котельщик или котел у кого украл?
— Я воровал консервы, когда работал на Афаэле.
— За консервы тебя бы прозвали «консервщиком», а не «котельщиком».
— Я прятал консервы в котле для еды. Опускал их в баланду, что оставалась на дне, и так проносил в лагерь, чтоб не нашли охранники.
Поначалу я думал, что он глуп, но ошибся. Он комбинатор, а подобные люди в чем-то ограниченны. Даже не ограниченны, просто их мозг работает в другом направлении: не любит затруднять себя запоминанием имен, названий, лиц. Люди для них лишь средство для осуществления цели, все прочее неинтересно и несущественно. Иначе невозможно объяснить то, что из десятка наших людей, с которыми Стевица вместе был на Сиврии, он не помнит почти никого. Неясно вспоминает Шумича, Ибро, часто их путает и не уверен, один это или два человека. Узун, по его словам, погиб и похоронен у озера в Лангаде; Жарко Остроус был тяжело ранен и покончил с собой, чтоб не мучиться. Когда спрашиваю его о Билюриче, он, пожимая плечами, замечает:
— Слыхал, будто кого-то звали Миня или Мня, а может, Муич или что-то вроде этого, но Билюрича не знаю…
Врасненское шоссе сворачивает куда-то в сторону, мы его оставляем и идем по тропе. Впереди чернеет лес. Наверно, и Миня Бшиорич здесь проходил, может, и сейчас где-то в лесу, уж очень он мне кажется улыбчивым и благосклонным. Здорово получилось бы, если бы Миня вдруг крикнул: «Стой! Кто идет?» Не помню, какой у него голос, когда кричит. С жандармами он дрался молча — и все равно узнал бы, всегда есть что-то помогающее узнать голос. Наверняка узнал бы, как и он меня. Вот бы удивился!.. А может, он раненый лежит где-нибудь в пещере над рекой и в полусне слышит, как мы проходим мимо, и говорит товарищу: «Погляди-ка, кто там проходит, только не стреляй, это наши, слышал знакомый голос…»
В Вамвакии залаяли собаки, фашистские дозоры наобум подняли стрельбу и осветили ракетами шоссе и верхушки деревьев. Когда все утихло, мы продолжили путь. В воздухе чувствуется влага близкого озера. У насыпи перед шоссе пожимаем руку сапожнику из Салоник и его двум провожатым — они идут в Ариего Хортиати, а может быть, и в Салоники. На этом свете, наверно, мы уж никогда не встретимся; а на том тем более.
Ждем минут с десять, пока они перейдут шоссе и выйдут на поле. Слушаем филинов, курим, пряча сигареты в рукава. Потом идем на запад. Река точно сгинула, кто знает куда и когда, нет ее больше, и все. Осталось шоссе, за ним виднеются кровли поселка. Шоссе снова раздваивается, как говорят, и мы сворачиваем в сторону Микри Волви. Кругом белеет песчаная земля, разделенная сетью меж, и потому напоминает высохшее озеро. С левой стороны поблескивает озеро Волви, не знаю, Малое или Большое, только похоже оно на звездный луг. Вдали, где, по моим предположениям, должна быть Стагира, всходит луна и освещает голое дерево, часть озера и берег. Стевица останавливается, хлопает глазами и узнает гору, через которую недавно переваливал. Названия, разумеется, он не помнит, да и не представляет себе, что у горы может быть название и кто-то может требовать его запоминать… Лунный свет заливает уже весь берег. Из темноты выныривает монастырская колокольня в окружении кипарисов, потом появляются камыши. Кое-где между дорогой и берегом чернеют снопы камыша, заготовленного для циновок. Запахи, окружающие меня, напоминают мне чифлук Хаджи-Бакче.
— Хорошо бы здесь остановиться на денек, — говорю я.
— И покупаться! — добавляет Видо.
— Я против, пока еще не сошел с ума, — ворчит Черный.
— Почему? Рядом монастырь, значит, место безлюдное.
— Они-то как раз по безлюдным местам нас ищут.
— Если не любишь купаться, сиди себе спокойно в холодке.
— Я люблю, чтоб за спиной у меня было надежно.
— Вот и садись спиной к монастырю.
— Нет, лучше уж устроиться там, на пригорке. Оттуда виднее.
Спорим какое-то время и стараемся привлечь на свою сторону Мурджиноса. Он колеблется, берет то одну, то другую сторону, наконец побеждают разум и осторожность. Неподалеку от монастыря мы сходим с дороги и направляемся песчаной равниной к горе. Грунт неровный, как оказалось, весь в рвах и ямах, порой глубоких, из которых когда-то брали песок, теперь они поросли терносливом. Песок искрится и белеет, за нами остается, точно вспаханная плугом, борозда. Пройдя с добрый километр, а может, и больше, мы добираемся до половины горы. В сущности, здесь две горы, наподобие двух ступеней, издали они кажутся одной. Над первой ступенью простирается пологая терраса, а у подножья верхней — зеленеет лес. Небольшой, примерно такой же, как у Вамвакия. Может быть, Миня Билюрич тут? Что-то на меня нашло, все мне кажется, он где-то близко. И я прошусь в дозор. Со мной идут Вуйо и Спирсе. Отыскиваем тропу, идем, оглядываемся, любуемся озером, как оно поблескивает среди белесой равнины с замершей у самой воды колокольней.
II
С кручи нас заметили филины — для них это повод начать перекличку и завести бесконечные разговоры. В их голосах слышатся и детское любопытство, и женская страсть поделиться неожиданными опасениями о чем-то неведомом, что к ним приближается. Пока их слушаю, мне кажется, что в них говорит разум или общественный инстинкт — они в близком родстве, если не одно и то же, — только что проснувшийся, проклевывающийся, бессильный, связанный по рукам и ногам, запуганный и обуреваемый страхом перед неосознанной действительностью. То, что их взволновал наш приход, доказывает, что с вечера там никого из людей не было — значит, и Мини Билюрича с товарищами. Но я упрямлюсь и не хочу верить в эту примету. Забираюсь в чащу и раздвигаю руками ветки, кидаюсь к теням, которые напоминают замаскированные двери землянки… Как-то дождливой темной ночью, когда перед носом не было видно и пальца, я разыскал Ивана Видрича и Ладо — так почему сейчас, при ярком лунном свете, не найти Миню Билюрича?.. Кое-где кусты раздвинуты, такие проходы напоминают обновленные войной заросшие тропы — напрасно по ним идти, они только увлекают в волчью глухомань.