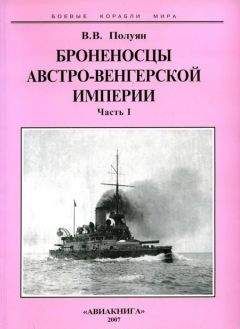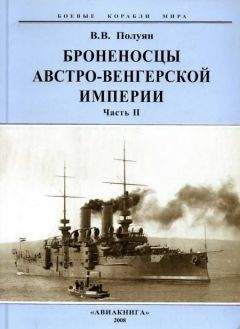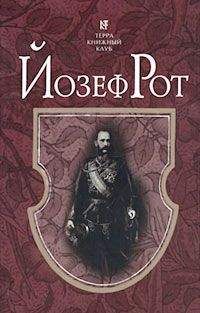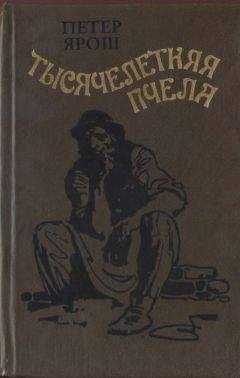Яромир Йон - Вечера на соломенном тюфяке (с иллюстрациями)
В тот миг, когда укрепленный на прочных веревках колокол почти опустился на землю, Макс влез под него и был им накрыт.
Стенки великана были могучими, поэтому никто не услышал криков о помощи.
Лишь на другой день деревенские мальчишки увидели, как чья‑то рука прорывает отверстие из-под края колокола.
Подняли крик, и тут уж пленник с помощью лопат был без труда освобожден из своего вынужденного убежища.
Он ослабел, и его унесли на санитарных носилках, уложили в постель и позвали к нему врача.
А пока я распорядился: ослабевшему его желудку давать только молоко.
Милостивая госпожа генеральша послала телеграфную депешу временному опекуну и родственникам.
Уже на другой день мой воспитанник поправился настолько, что смог пойти с нами на вокзал встречать трех теток, которые привезли ему несколько коробок игрушек и конфеты, опекуна — господина фон Выникала, его дядю, генерал-интенданта в отставке, человека с весьма деликатными манерами.
После сердечной встречи на вокзале все общество направилось в город.
По желанию госпожи генеральши я со своим воспитанником шагал в авангарде.
Пока мы шли по площади городка, в этот вечерний час весьма оживленной, Макс передразнивал знакомых своей матушки, почтительно салютующим офицерам показывал длинный нос, а когда я сделал ему замечание, он в ответ высунул язык.
Господин барон в резкой форме приказал, чтобы мы двигались в двадцати шагах позади.
Мы с Максом выполнили его требование и стали повторять некоторые латинские поговорки.
В тот вечер состоялся семейный совет, на котором, кроме меня, присутствовал также врач.
После того как генеральша рассказала обо всех своих страданиях, тетки стали плакать, обнимать ее и жалеть, а опекун, господин барон, молчал, зевал от скуки и наконец произнес:
— Ach, was?[149]
Я присоединился к мнению врача, который указал на физическую слабость мальчика, и рекомендовал закалять его, что укрепило бы слабую нервную систему.
Большую же часть совета занял обмен новостями о родственниках и знакомых.
Празднично разодетый Макс был потом приведен горничной в комнату.
Накрахмаленное жабо украшало бархатный костюм шоколадного цвета, пелеринка мягко спадала с плеч.
Опекун вставил монокль и сделал отеческое внушение.
Упомянув вначале о знаменитых предках их рода, перечислив все ордена Максикова отца, он, при всеобщем сочувствии, обрисовал печальную долю одинокой мама, которая нежно заботится о своем сиротке, а ведь другие сироты бродят в лохмотьях по улицам, просят милостыню, страдают от голода, жажды и побоев, вынуждены питаться картошкой и пайковым хлебом… Поистине отверженные, из которых вырастают преступники, восстающие против австрийской родины, императорской фамилии и религии.
— … О Weh, dreimal Weh den solchen![150]
Макс же из знатной семьи, последний потомок фон Выникалов, окружен заботой…
— Тогда бросиль… on Lausbub [151], глюпост и поцеловаль мама руку…
Не успел никто и рта открыть, как Макс быстро ответил:
— Si tacuisses, philosophus mansisses…[152]
— Was ist das? [153] — обратился ко мне барон и сдвинул белесые брови.
— Это, господин барон, латинская поговорка, которую мы сегодня… нет, вчера, выучили… Смысл ее такой: «Так как ты, дорогой мой дядюшка, не молчал, то стал философом!».
— Браво! — воскликнул барон, довольный, и подал мне руку.
Он был великодушный человек.
Первым ушел врач, сославшись на визит к тяжелобольному.
Перед тем как мы, участники семейного совета, сели за обильную трапезу, в открытое окно мы увидели врача. Он был без пиджака и вместе с дворником возле сарая возился у трехколесного автомобиля. Все три шины автомобиля были проколоты чьей‑то преступной рукой.
Доктор, весь багровый, отшвыривал снятые колеса в разные стороны, громко и неприлично ругался.
— Er ist ein Bauersohn [154], — оправдывала доктора госпожа генеральша перед почтенным обществом, которое не без некоторой доли юмора наблюдало эту сцену из окон.
Вечером господа уехали.
По возвращении с вокзала я повздорил с дворником, который обвинил меня в шашнях с горничной и даже показывал любовное письмо, написанное якобы моею собственной рукой, что, разумеется, было плодом его сильно возбужденного воображения.
Ночь прошла довольно спокойно.
Только жена дворника, вернувшись из города, явно по наущению своего мужа встала у меня под дверью и принялась угрожать мне, применяя выражения, свойственные необразованному народу, в том смысле, чтобы я, мол, сматывал свои манатки, что, дескать, она, дворничиха, недозволенную связь с горничной в доме терпеть не станет.
Она не прекратила скандал даже после того, как я, стоя босиком у запертой двери, заявил, что дело это в свое время будет решено к полному ее удовольствию.
В духе постановлений семейного совета я в то же утро начал выполнять с Максом физические упражнения на свежем воздухе.
Поскольку полил дождь, мы удалились в комнату, стены которой были богато украшены всевозможным оружием разных народов.
Тут, располагая достаточным местом, мы выполняли упражнения, поставив пятки вместе, носки врозь, и, приседая, делали наклоны корпуса, отведение ноги вбок и вынесение ее перед собой.
Должен признаться, что упражнения эти, в групповом исполнении весьма интересные, вдвоем несколько однообразны.
Чтобы сделать обучение более живым и увлекательным, я рассказывал ему об американских гангстерах и их проделках. Затем я показал своему подопечному некоторые приемы лондонских полицейских, японский способ, как быстро обезвредить нападающего, и, наконец, рассказал об основных правилах классической борьбы.
Мы попробовали бороться, взаимно массируя шейные мышцы, стараясь перебросить друг друга через бедро.
Желая доставить ему удовольствие, я позволил повалить себя. Я выполнил превосходный мостик, который он пытался сломать щекоткой и другими недозволенными приемами.
Потом я поднялся, схватил этого яростно сопротивляющегося хомячка поперек туловища, крутанул, как рулетку, и уже почти уложил на обе лопатки, как вдруг, он пнул меня ногой в пах, разорался и так завизжал, что мне показалось, будто он лишился рассудка.
Мы свалили подставку со статуей какого‑то австрийского полководца.
Макс бил ногами, царапался и кусался, как волчонок, и совершенно неожиданно выскользнув угрем из железных тисков моих объятий, сорвал со стены турецкий ятаган и кинулся на меня.
Я тотчас понял, какую опасность представляло собой остро отточенное, а возможно, и отравленное оружие коварных сынов Востока и побежал к дверям.
В дверях клинок настиг меня и порезал ухо.
Кровь потекла из рассеченной ушной мочки.
Не имея под рукой дистиллированной воды, я тщательно промыл рану ключевой водой из источника и обвязал голову сначала чистым лоскутком, а затем подаренным мне моей матушкой шейным платком с желтыми цветочками.
Я тотчас же попросил у госпожи генеральши аудиенции.
Признаюсь без угрызений совести — пребыванием в ее доме я был сыт по горло.
Госпожа генеральша вначале предположила, что у меня болят зубы.
Я не счел нужным объяснять ей что‑либо.
Просто сообщил, что безотлагательные семейные обстоятельства вынуждают меня попросить в полку отпуск и выехать к себе на родину, в Чехию.
Не поддался я ни на ее настойчивые просьбы, ни на обольстительные улыбки.
Пренебрег и солидным вознаграждением, которое она мне предлагала‑только бы я остался.
Твердо, непоколебимо стоял я на своем.
Она все же погладила меня по платку, которым было завязано раненое ухо, и высказала подозрение, что, должно быть, любовь к какой‑нибудь более молодой женщине гонит меня из ее дома…
Усвоив за это короткое время салонные манеры, принятые в высшем свете, я щелкнул каблуками, поцеловал ей руку, поблагодарил за все доброе и, взяв ранец, больше ни с кем не простясь, покинул этот немецкий, генеральский, недоброй памяти дом.
Она помахала рукой из окна, и мне показалось, будто даже платочком тонким, батистовым глаза вытирала…
Шел я на вокзал шагом бодрым, военным.
Урок тактики
Из окон гимнастического зала и одновременно часовни немецкой начальной школы, где за тесными партами сидели сорок три вольноопределяющихся, был виден просторный городской парк.
Сквозь ветки крайних кустов, сгнивших от сырости в застроенной части парка, просвечивала яркая молодая зелень каштанов, берез, платанов и плакучих ив. В прозрачном воздухе теплого летнего дня деревья все время трепетно дрожали. Фоном парку служили холмы, густо поросшие серебристо-серыми тополями, бледно-зелеными лиственницами, тускло-матовыми липами, грабами и каштанами, чьи даже издали видимые перстообразные листья шевелились от ветра, словно играли в какую‑то веселую игру. Над парком простиралось лазурно-синее небо. По тропинке, на обсаженном самшитом склоне, шел прусский офицер с девушкой в красном платье.