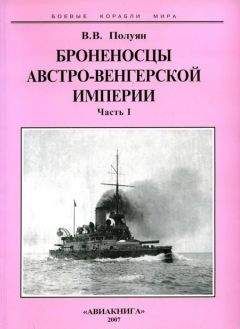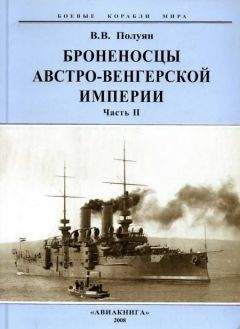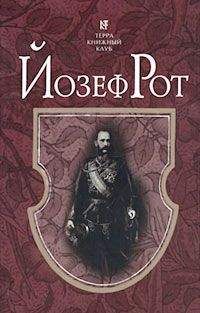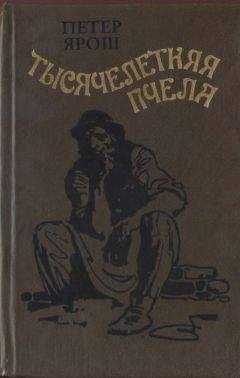Яромир Йон - Вечера на соломенном тюфяке (с иллюстрациями)
В громкий разговор вольноопределяющихся, ожидавших прихода преподавателя тактики, вплетались шум фонтана, громкие крики детей, слова прохожих и звон маленьких колоколов лесной часовни, зовущих к майскому богослужению. Через открытые окна в гимнастический зал струился воздух, порывы его перекатывали облака табачного дыма от сигарет и трубок — влажный воздух, насыщенный пряным ароматом цветущих трав, чабреца и приторным запахом распустившихся гвоздик, высаженных под окнами в клумбы, среди которых петляла посыпанная песком дорожка, всегда сырая от водяной пыли фонтана.
Яркие солнечные лучи тянулись длинными полосами от окон до середины зала, освещая кирпично-красные от загара лица вольноопределяющихся, отчего становились заметными их небритые подбородки.
С каждой минутой ожидания возрастал шум, все более бурный и суматошный хор грубых мужских голосов. Вольноопределяющиеся поднимались со своих мест, перекликались с Паздеркой, учителем черчения, который рисовал на доске карикатуры на начальников; с металлическим звуком полетели в угол брошенные кем‑то фехтовальные принадлежности; у кафедры игроки трясли двухгеллеровые монеты в сложенных ладонях и метали их к черте; ефрейтор Пик, по гражданской должности главный поверенный страхового общества, читал вслух роман «Афродита»; три адвоката и один судья, оживленно споря, играли в карты; многие из вольно-определяющихся, утомленные упражнениями в манеже, лежали на скамьях или же, зевая, выполняли задание по «Террайнлере» [155], рисуя обозначения мостов, бродов и мостиков, колодцев обычных и артезианских и другие скучные ненужности; самый старший из этой группы «С» вольноопределяющихся конно-транспортного батальона, людей от тридцати до сорока лет, — папаша Клицман, по профессии почтмейстер, отец шестерых детей, растянувшись на гимнастическом мате, громко храпел, приближая таким способом желанный момент, когда ему сообщат, что он уволен по чистой.
Время от времени, когда спросонья поднималась чья‑нибудь облысевшая голова, бурные волны голосов утихали. Удивленно озираясь, голова тут же поспешно упиралась очкастыми глазами в тетрадь с диктантом: «Jedes Gefecht soll planmässig geführt werden… Bei der Befehlsausgabe Notizen machen» [156], чья‑нибудь рука придвигала цветные карандаши и учебник Шмидта для унтер-офицеров. И лишь когда выяснилось, что занятия будет вести не ротмистр граф Корнель Дьорффи, а преподаватель тактики кадет-аспирант Стейскал, когда самые робкие, высунувшись из окна, убедились, что дозор у ворот на улице спокойно покуривает, шум перерос в рев, где потонули и злобные выкрики поссорившихся картежников и храп почтмейстера…
В гимнастический зал вбежал аптекарь, который был послан наблюдать, и вслед за ним послышался звон шпор инструктора. Вольноопределяющиеся обступили его.
— Дьорффи не придет?
— Setzen![157]
— Не придет?
— Setzen… говорю… не придет.
— Уууу… уууу… ууууу!
— Ru-he!
Тетради и чернильные карандаши исчезли под партами, пробужденные вернулись ко сну, картежники вновь взялись за карты, пан Пик — за книжку «Афродита», а папаша Клицман опять улегся на мат.
Инструктор Стейскал, преподаватель тактики, беспокойно ходил перед первыми партами. Это был семиклассник хрудимской гимназии, безусый юнец с неправильными чертами худощавого лица, что свидетельствовало о лишениях и бедном происхождении, со школярской светлой челкой, по характеру робкий, почтительный к своим ученикам, среди которых был и его классный наставник — учитель греческого и латыни Бечка.
Будучи юношей способным и услужливым, он, пройдя очередную медицинскую комиссию, из-за последствий огнестрельного ранения легких был использован в качестве преподавателя тактики в школе вольноопределяющихся, поскольку прилично знал немецкий, был на фронте и на его мундире болтались бронзовая медаль и черно-белая ленточка немецкого креста…
Внезапно остановившись, он нерешительно коснулся подбородка и сделал театральный жест.
— Also… Repetitorium Taktik… Was ist Taktik… sagt uns… Gefreiter Herr Ingenieur [158] Кршиванек!
— Стейскал, пошли сегодня с нами пить вино, — сказал по-чешски вызванный ученик.
— Господин ротмистр приказал мне повторять с вами тактику, и хватит… садитесь!
— Расскажи нам, как там было на фронте! — раздались протестующие выкрики, сопровождаемые топотом.
— Ru-he!
С самой задней парты махали две руки.
— Что вам, пан учитель Кнежоурек?
— Пан кадет-аспирант, покорнейше прошу разрешить мне выйти!
— По нужде?
— Да.
— Passiert! [159] Что угодно вам?
— Я тоже покорнейше прошу в…
— Идите.
— Расскажи, Стейскал, как вы драпали…
— Пусть он произнесет торжественную речь о половых болезнях!
— А пиво у вас в Галиции было?
— Пускай Брадач споет куплеты!
— Ru-he! — фистулой срывается голос инструктора, и в тот же миг раздается грохот поваленной скамьи.
— Садись, Извратил.
— Yes! You ouglit not to miss it![160]
— Тсс-с! Тихо!
— Пан Трукса, не бегайте по классу.
— Эй, Янда-километр, как дела?
Геометр Янда, бородатый толстяк, выведен из дремоты сильным толчком под ребра. Увидев, что на него обращены все взоры, он заглядывает в тетрадь и читает по складам:
— Jeder… jedes Gefechten müssen wir machen… э-э… in Planen machen… э-э… э… Hauptsache ist… Notizen machen…[161]
На горемыку, чьи печальные семейные обстоятельства были всем хорошо известны, посыпались удары, которыми надлежало привести его в чувство. Пущенный спереди бумажный шарик угодил по красному, грушеподобному носу. В воздухе мелькнул казенный сапог папаши Клицмана. Под шумок некоторые вольноопределяющиеся выбежали во дворик и стали сажать на подоконники кроликов школьного сторожа.
— Янда, setzen!
Инструктор опять стал смущенно ерошить волосы и беспомощно уставился в окно. Его серый мундир осветило багряное заходящее солнце. Теперь в школе стало поспокойнее. Время от времени шлепали карты.
— Объявляешь сорок, а на руках двадцать.
— Козыри‑то ведь бубны…
— Пиковым королем объявляешь сорок.
— Козырь!
— Четыре ставки!
— Туз!
— Ой!.. Осмелюсь доложить… Пусть коммивояжер Водичка не колет меня булавкой!!
— Такую недисциплинированность, господа, я не потерплю…
Кролики стали спрыгивать в класс.
— Пиф!.. Паф! — кричали вольноопределяющиеся.
Кто‑то свистнул на пальцах. Кто‑то произнес со вздохом:
— Ах, боже мой…
На двух последних партах разгорелся филологический спор. Рассерженный учитель городской начальной школы кричал сиплым тенорком:
— Прошу вас, избавьте меня от этих глупых шуток, я ученик Гебауэра и будьте добры, постарайтесь говорить чуть правильнее.
— Какой вы умный!
— А пошли вы все… — произнес багровый от гнева учитель, встал и вышел во дворик.
— Пан кадет-аспирант, как дежурный осмелюсь доложить, что в уборной собралось уже семь учителей…
— Пан аптекарь, идите к ним и скажите, что я строжайше приказал…
В этот миг из коридора послышалось пение. Учителя затянули «Когда я, несчастный, на войну отправлюсь…».
Класс притих, все слушали протяжную, как бы доносившуюся издалека словацкую песню, приглушенный, временами замирающий мотив которой дрожал в воздухе. В наступившей тишине жизнь парка и плеск фонтана шумом своим аккомпанировали пению. Временами казалось, что волны воздуха приносят грустные звуки из парка, а может, даже с самого синего ласкового неба, мелодию песни, от которой грудь сдавливал страх, песни, которая так удивительно выражала тревогу и неуверенность в нашем будущем. При этом все думали о песчаных галицийских равнинах, о напрасно пролитой крови, о павших товарищах, братьях, сыновьях, друзьях, в памяти вставала жуткая сербская бойня. Горьким стал иронический смех, и стало вдруг больно жить, когда словацкая песня заговорила о тщетной надежде, и больше уже не нужно было слов о том, сколь бесконечная грусть охватывает душу, для которой нет ни света, ни правды, ни тепла, ни любви, душу, способную понять печальную судьбу народа, который служит чуждым ему интересам.
А я не вернуся,
не судьба, значит…
И никто на свете
по мне не заплачет…
Тишина стояла и после этого завершающего куплета песни, которую они так хорошо знали и последние слова которой долго затихали, пока не замерли совсем…
— Час пробил! — воскликнул папаша Клицман, глядя на часы, а в глазах его стояли слезы.
Все шумно поднялись со своих мест, стали разбирать шапки с вешалки и, надев пояса с саблями, повалили наружу.
Во дворике отзвучали последние шаги и звон шпор.