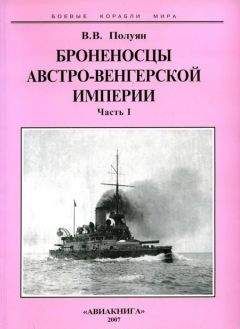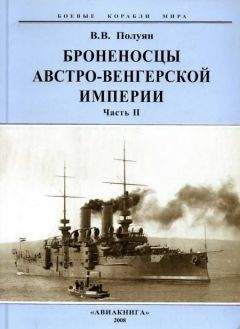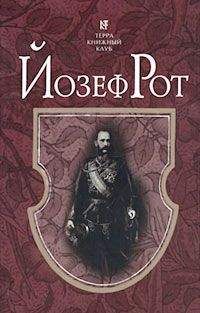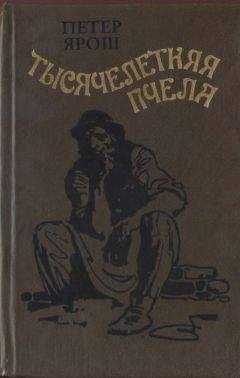Яромир Йон - Вечера на соломенном тюфяке (с иллюстрациями)
Машинистка перестала стучать на машинке. В канцелярии воцарилась гробовая тишина.
Телефонная трубка, которую я в испуге выпустил из рук, висела, раскачиваясь взад-вперед.
— Как… как… вы могли о-сме-лить-ся! — раздался тот же зычный голос.
Я снова поклонился, придерживая саблю согласно уставу, вытянувшись с окаменевшим лицом.
— Господин майор… Покорно прошу извинить меня…
— Молчать!
— Я не заметил…
— Молчать!
Я умолк.
Он медленно перегибался через стол к моему лицу. Усы у него дрожали. Рука схватила мраморное пресс-папье и грохнула им о стол.
— Молодой человек!.. Молодой человек… кадет! — начал он громким голосом, от которого задрожали стекла. — Молодой… э… человек! Вы не знаете, как надлежит… а-а-а… полагается… э?…
— Господин майор, осмелюсь…
— Молчать! Я вам покажу, как должно быть! Сегодня вы уже третий молодой человек… modern Militär [138], который не умеет себя вести. Солдатской крови в вас ни… ни… ни капли… нет… ни капли…
В трубке, качавшейся на шнуре, слышались какие‑то звуки: бре-е-еееее-ее…
Я подскочил, нагнулся, однако новый удар пресс-папье меня остановил.
— Смирно! Вы будете стоять смирно или нет?!
— Извиняюсь… Господин майор, я звоню командованию…
— Что? Командованию? Кто здесь начальник? Я — командование!
У меня потемнело в глазах.
Я вспомнил о грудах сена, мешках, сумках, фляжках, о людях, которые будто манны небесной ждут под дождем повозок. Я видел нетерпеливого обер-лейтенанта с отсыревшей трубкой, тщетно высматривающего повозки, которые я должен как можно скорее вытребовать по телефону.
Старичок майор нетвердой поступью обошел свой письменный стол, стал прямо против меня и величественно выпятил грудь.
— Запомните, что я вам скажу, молодой человек! — помахал он передо мной указательным пальцем, на котором сверкал старинный перстень-печатка. — О-го-го! Пардон! — изумленно отступил он на шаг в сторону, оглядывая меня с головы до ног. — Вы ведь и одеты не по уставу! Ну что это такое? Свисток на зеленом шнурке! Разве так положено по уставу? А? Почему у господина кадета шнурок не серый? Что, если благодаря этому зеленому шнурку его заметит неприятель? И будет уничтожен весь полк? Ай-ай-ай! А эти сапоги! Где ж это предписано, чтоб кадеты на поле боя носили этакие туристские ботинки? Хи-хи-хи! И это‑modern Militär! Вы преступник! — гневно закричал он. — Вы подрываете обороноспособность армии! Вы подаете дурной пример и заслуживаете особого наказания. И потом, хотел бы Я знать, где это в уставе сказано, чтоб подчиненный — к тому же всего лишь кадет — стоял перед штабным весьма заслуженным офицером с расстегнутым крючком на куртке и в фуражке набекрень? Кто вы по национальности?
— Чех… осме…
— Ага! Так я и думал! Prager Pepik von der Moldau! [139] Стреляный воробышек мне попался!.. — потер руки майор. — Ну, подожди, Пепичек, мы тебя проучим…
В телефонной трубке вновь и настойчиво; тррррр… е-е-е-еееее-ец!
Я невольно сделал движение, чтобы поднять трубку.
— Что вы себе позволяете! — опять рассвирепел он. — И как вообще ваше имя, вы, храбрец?
— Господин майор! Наипокорнейше представляюсь — Йон Яромир, кадет обозной горной дивизии шесть Е!
Он поднял брови, и подбородок его безвольно отвис.
— Так, значит… представляюсь! Meine Herren!! [140] Он, кадет… мне — майору… наипокорнейше представляется, — произнес он с иронией.
— Мы что, в ресторане? — загремел он. — И это обученный солдат? Кандидат на офицерское звание? Псякрев, фи донк [141]…
Под курткой у меня был надет свитер, тело от него жгло и чесалось.
Стоять пять минут по стойке «смирно» в жарко натопленной комнате, не шелохнувшись, — чувствительное наказание.
Из-под слипшихся волос у меня струился пот. Капля за каплей. Они, шалуньи, прокладывали на лице извилистую дорожку, подгоняемые вперед новыми потоками соленой воды, стекавшей из-под фуражки. Противная капля на кончике носа увеличивалась, дрожала и щекотала. Когда майор на какой‑то момент выпускал меня из поля зрения, я старался легким подергиванием головы стряхнуть ее.
Безрезультатно!
— Бреее-е-е-еееее-прц!
— Молодой человек, — голос майора вдруг стал мягче, — у меня нет времени излагать вам предписанные уставом правила, но я дам вам отеческий совет… Когда в тысяча восемьсот семьдесят пятом году, в чине капитана, я, помимо службы, преподавал в школе саперов… Там во времена моего начальствования был железный порядок и образцовая дисциплина. Вы слышите?
— Да, господин майор!
— Однажды его превосходительство фельдмаршал Вильгельм уезжал из Рейтгаузена после генерального смотра заведения… Это было… в мае… постойте!.. я ошибаюсь… да, да… ganz richtig… [142] это было двадцать седьмого мая… Его превосходительство похлопал меня по плечу и сказал: «Du — Kamerad [143]. Пре-крас-но вышколил своих парней, любо посмотреть, я немедленно еду к своему шурину в министерство и доложу ему об этой гран-ди-оз-ной дисциплинированности…».
Так вот, господа!.. И сказал мне это его превосходительство господин фельдмаршал, такой строгий, что недели за две до его приезда даже печи в корпусе начинали дымить. Если у нас где‑нибудь дымила печь, это было верным предзнаменованием, что он скоро появится. Поэтому мне обязаны были немедленно докладывать, если какая‑нибудь печь начинала вдруг дымить. Но вне службы не было человека милее его превосходительства. Золотое сердце! Виргинскую сигару, добрый стаканчик рислинга — прежде всего! Воплощенная добродетель… А в восемьдесят первом году… нет, осенью… в восемьдесят втором… о нем ходил великолепный анекдот. Встречает он в Вене двух молодых людей, офицеров, ночью на Мариагилф. Они не узнали своего любимого фельдмаршала. Не поприветствовали его. Он остановил их и шутливо говорит; «Meine Herren, sie sind keine Herren, verstehen sie, meine Herren?» [144].
После этих слов в канцелярии раздался вежливый смех нескольких вновь вошедших офицеров.
Майор окинул взглядом помещение и засмеялся. Я тоже улыбнулся.
— Конечно, — продолжал он, — это случилось поздно ночью, а его превосходительство шел из Леопольдова, где он был в тот год. Господа, слушающие меня сейчас, по всей вероятности, принимают это за шутку, но подобные фразы не забываются. Назавтра по всей Вене передавалась шутка его превосходительства господина фельдмаршала, и всякий повторял: «Meine Herren, sie sind keine Herren, verstehen sie, meine Herren…» Xa‑xa… ихих!.. Потом… потом какой‑то бездельник сложил об этом куплет…
В тот момент, когда майор обратился к офицерам, которых подошло еще несколько человек, мне удалось ритмичным подергиванием стряхнуть с носа и ушей беспокоящие меня капли пота.
— Так вот, молодой человек! — снова обратился ко мне майор, вытирая платком выступившие на глазах слезы. — Не забывайте о начальниках, сохраняйте к ним уважение и признательность! Мои ученики, ныне ротмистры, майоры, часто и с благодарностью пишут мне. Они очень сожалеют, что я решил уйти на пенсию. Ну, что поделаешь, зрение мне уже отказывает, и в Пештяны я езжу каждый год — это уж, голубчик, не то, что в молодости… Моя незабвенная супруга, скончавшаяся пятнадцатого февраля тысяча девятьсот двенадцатого года, филантропка и меценатка, как писал Гразер Тагезботе, исключительная жена и превосходная хозяйка, часто вспоминала празднества, устроенные друзьями на моей вилле в Штирском Градце, когда я справлял свое семидесятилетие… Мой дорогой друг полковник Визерле… Он тоже на пенсии… Господин генерал-майор Станченский… он уже умер… в то время, несмотря на свои восемь десятков, еще весьма видный и крепкий мужчина…
Я медленно опустил саблю, стал «вольно», а правой, свободной рукой украдкой вытягивал из кармана носовой платок.
«Возможно, братец, ты выберешься цел и невредим», — подумал я.
Я улучил момент, оглядел канцелярию — и пришел в ужас. В канцелярию набилось полно офицеров. Они стояли уже вплотную к печке, толкались, а судя по непрерывному скрипу двери, беспрестанно входили новые.
Теперь слышался ровный гул, звук шагов, потом снова раздавалось тихое «нет!» и приглушенное «Ruhe!».
Присутствие подобного числа зрителей окончательно смутило меня.
«Столько офицеров на небольшой хорватской станции, — рассуждал я. — Не иначе чтобы посмеяться надо мной, созвали офицеров двух пехотных эшелонов, — я видел их на вокзале, — да еще офицеров артиллерийской части, расположившейся лагерем на кукурузном поле за вокзальным складом».
Я стоял, как у позорного столба.
Но майор продолжал уже вполне милостивым и сердечным тоном:
— Представительный был мужчина, мой дорогой друг генерал-майор Станченский. Его супруга… госпожа Рози, знатного происхождения, высокая такая дама… и дети… один — секретарь министерства культуры и просвещения и, кроме того, известный альпинист, другой, Альберт, — атташе консульства… очень видные, рослые… У него все было рослое — и слуги и кони. Он держал бельгийцев и огромного дога. Моя внучка Эльсинка, дочка моей дочери, каталась на этом добродушном псе, ухватив его ручонками за уши, вот так… вот так… И этот прелестный ребенок кричал: «Гийо-гийо! Правда… дедушка… лошадка… правда!». Нынче она уже замужем… замуж вышла…