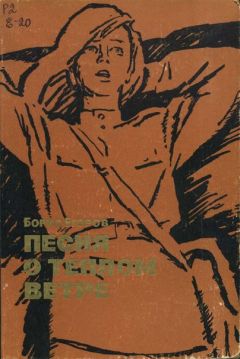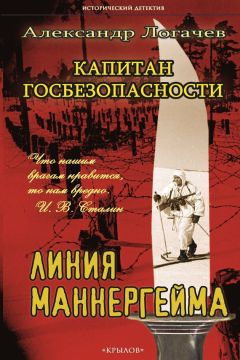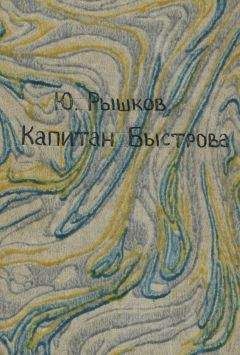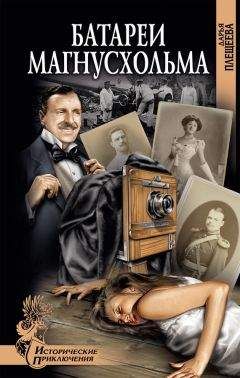Юрий Додолев - Мои погоны
До войны в клубе было празднично, весело. А теперь в зрительном зале с огромными — от пола до потолка — окнами стояли по обе стороны двухэтажные нары без матрацев. Я взглянул на них: «Неужели спать придется на голых досках?»
За окнами виднелись крыши, занесенные снегом. Окна были и на левой, и на правой стороне — одно подле другого. Они создавали впечатление пространства. Казалось, мы находимся не в помещении, а на улице. Может быть, поэтому я не мог согреться.
Папаша куда-то ушел. Вместо него появились двое — старший лейтенант и старшина.
Старший лейтенант понравился мне сразу. Лет двадцати семи, плотный, с чуть кривоватыми ногами, какие бывают у кавалеристов, с полными, как у женщины, ляжками, в хромовых сапогах с приспущенными голенищами, он все время наматывал на палец рыжеватую прядь и улыбался, показывая рот, набитый золотыми зубами.
— Здорово, орлы! — весело сказал старший лейтенант.
«Орлы» заулыбались и ответили вразнобой:
— Здрасте…
— Привет…
— Наше вам…
— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! — крикнул я.
Старший лейтенант хлопнул себя по ляжкам и захохотал, ослепив нас золотом зубов. Петров подтолкнул меня, прошептал восхищенно:
— Во дает!
«Точно!» — подумал я. Старший лейтенант действительно «давал» — такого заразительного смеха слышать мне не приходилось.
— Детский сад… Как пить дать, детский сад, — проговорил старший лейтенант, вытирая запястьем выступившие слезы. Обернувшись к старшине, добавил: — Сыроват, старшина, материальчик? А?
Старшина молча кивнул.
Был он прямой, как палка, и такой же тонкий, туго перехваченный в талии ремнем, отчего казался состоящим из двух половинок, на одной из которых выделялось лицо нездорового, землистого оттенка с маленьким упрямым ртом, а на другой — начищенные до блеска офицерские сапоги, плотно облегающие икры.
Продолжая улыбаться, старший лейтенант сказал нам, что он командир нашей роты — Старухин.
— А это, — старший лейтенант кивнул на своего спутника, — старшина роты Казанцев. — Обернувшись к нему, приказал: — Приступайте к своим обязанностям, товарищ старшина!
Казанцев щелкнул каблуками, вздернул сжатую в кулак руку к виску, распрямил пальцы, сказал: «Есть!» — и резко бросил руку вниз. Получилось это красиво, ловко. Я решил: «Надо будет научиться козырять точно так же».
Старший лейтенант ушел, одарив нас напоследок сиянием своих зубов. После его ухода Казанцев обвел нас недобрым взглядом и сказал отрывисто, словно затвор взвел:
— Ста-новись!
Мы построились, образовав волнистую линию. Все держали в руках «сидора», словно боялись расстаться с ними.
— Отставить! — крикнул старшина и приказал сложить «сидора» в угол, потому что, по его мнению, мы держались за них, как за мамкины титьки.
Я рассмеялся. Казанцев посмотрел на меня, мрачно пообещал:
— Заплачешь скоро.
Я прикусил язык.
Мы сложили «сидора» и снова построились.
— Сми-ир-на! — рявкнул старшина.
Я вытянулся, словно аршин проглотил. Дальше ничего интересного не произошло. Старшина обозвал нас стадом, пообещал сделать из нас настоящих солдат. Сообщив это, скомандовал:
— Разой-дись!
Мы не спеша разошлись.
— От-ставить! — рассердился старшина. — По команде «разойдись» пулей лететь надо. Ясно? А ну порепетируем. Становись!
Мы снова образовали волнистую линию.
— Равняйсь!.. Смииирнаа!
Я глядел прямо перед собой: видел кусок неба, с которого сыпал и сыпал снег, часть крыши с дымившейся на ней трубой. Все стояли не дыша, боясь нарваться на окрик. Было так тихо, что я услышал голос Левитана. Он читал сводку: «После упорных боев наши войска освободили…» Какой город освободили наши войска, я не разобрал.
— Воль-на!.. Разойдись!
Мы бросились врассыпную. Я помчался сломя голову к заколоченной крест-накрест двери, над которой висела табличка «Запасной выход».
Кто-то упал. Кто-то тяжело дышал мне в спину. Остановившись, я посмотрел на старшину.
— Совсем другой коленкор, — сказал Казанцев и улыбнулся. — А ну, повторим!
Снова прозвучала команда «смирно», я снова услышал радио — только на сей раз вместо сводки передавалась музыка.
— Разойдись!
Я стремглав припустился к заколоченной крест-накрест двери. Около меня, тяжело дыша, остановился Петров. Чуть поодаль — Фомин. Николай взглянул на меня с веселым ужасом.
— Наплачемся, — уныло проговорил Фомин и всадил плевок в темневший на полу сучок.
Боже мой, что тут началось. Казанцев взревел, словно раненый олень-рогач. Его ноздри затрепетали, в узких — монгольского разреза — глазах появился холодный блеск.
— Убрать! Немедленно убрать!!
Фомин хотел растереть плевок подошвой.
— Руками! — громыхнул старшина. — Носовым платочком!
— Нету, — хмуро сказал Фомин.
— Нету? — Казанцев хватанул ртом воздух. — А сопли вытирать чем будешь? Это ж тебе не детский сад, а казарма. Ка-зар-ма! — Старшина произнес это слово уважительно, с придыханием.
Фомин молчал, глядя себе под ноги.
— Еще раз напакостишь — пеняй на себя, — сказал старшина. — Ясно?
— Ясно.
— Не слышу! — повысил голос Казанцев.
— Ясно, товарищ старшина! — отчеканил Фомин.
Казанцев кивнул. Ткнув в меня, Петрова и Фомина пальцем, сказал:
— Ты, ты и ты. На балкон! За постельными принадлежностями. Одна нога — тут, другая — там.
Мы помчались, обгоняя друг друга, на балкон, где лежали матрацы, подушки, одеяла, простыни.
Матрацы оказались тоненькими. Они лежали один на другом, как блины на тарелке. Один матрац полагался на двоих.
Мы укладывали их на нары — один подле другого. Заняли ряд — справа от стены. Нары, расположенные на другой стороне, остались пустыми. Пятьдесят шесть подушек с одинаково торчащими углами возвышались, словно маленькие пики: двадцать восемь пиков внизу, двадцать восемь наверху.
После обеда прибыли еще новобранцы.
— Откуда, ребята?
— Из Кирова. А вы?
— Москвичи.
С новенькими произошло то же самое: Старухин ослепил их золотом зубов, Казанцев назвал стадом. Новички заняли нары по другую сторону.
Потом старшина принес из каптерки шторы — тяжелые, бархатные — те, что, наверное, висели в клубе еще до войны, приказал прикрепить их к карнизам, чтобы не дуло. Прикреплять шторы пришлось мне, потому что никто не мог даже с лестницы дотянуться до карниза.
Я прикоснулся к шторам и почувствовал: внутри защемило. Шторы пахли театром — тем особым запахом, к которому я привык и полюбил: в театр я ходил часто, особенно в сорок третьем, когда на двадцать рублей ничего съестного нельзя было купить, а в театр сходить — пожалуйста. Чаще всего я ходил в филиал Большого театра. В черной сатиновой рубашке, подпоясанной узким ремнем, в заштопанных брюках, в галошах, подвязанных бечевкой (ботинки сносились, а новые купить было не на что), я, должно быть, выглядел нелепо, но война «списывала» все — на мой внешний вид никто не обращал внимания. Да и вся остальная публика была одета совсем не так, как в мирное время: женщины были в простеньких, чаще всего темных платьях без украшений, мужчины — в сшитых еще до войны и уже лоснящихся пиджаках. Много было военных, перетянутых ремнями, в сапогах, смазанных за неимением гуталина какой-то дурно пахнувшей смесью.
Нарядней всех были одеты капельдинеры — пожилые женщины и седоусые старцы, проработавшие в театре, видимо, не один десяток лет. На капельдинерах были темно-синие костюмы с выпуклыми пуговицами. Я смотрел на капельдинеров и думал: «После войны сошью себе точно такой же костюм».
…Шторы прикреплены. Сразу стало тепло и уютно…
Ночью нас повели в санпропускник. Моя куртка, прожаренная и пропаренная, загремела, как рыцарские доспехи, одежда запахла кислым, но я не переживал — нам выдали форму: не новую, б/у, однако приличную. И хотя я мечтал о сапогах, получил бутсы. Старшина тут же, в бане, стал обучать правильно наматывать обмотки. Я решил пофорсить, намотал их чуть ниже.
— Фасон давишь? — спросил старшина, — Перемотать! На два пальца ниже колен. Ясно?
— Так точно, товарищ старшина!
Казанцев одобрительно кивнул:
— Так всегда отвечать надо. Молодец!
Свою гражданскую одежду я продал по дешевке банщице — востроглазой, суетливой старухе. Так же поступили и другие ребята.
Продал одежду и почувствовал: отрубил последнюю нить, соединявшую меня с домом, с прежней жизнью, одним словом, с «гражданкой».
6
Занятия — строевая подготовка и прием на слух — начались сразу же. Строевой подготовкой мы занимались на плацу, утоптанном сотнями ног, километрах в трех от казармы. Строевая однообразна: шагом арш, кругом, налево, направо, смирно, но мне она нравилась и давалась легко.