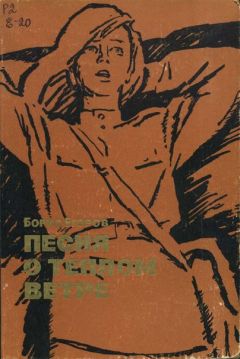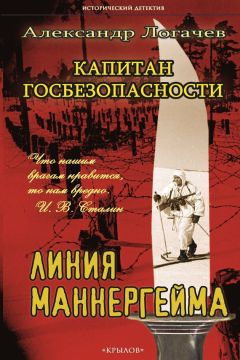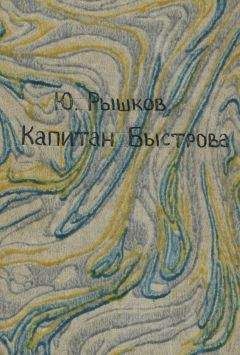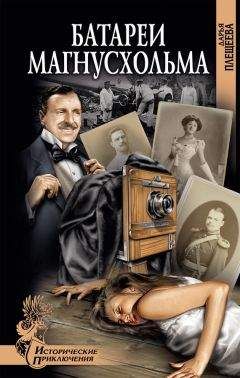Юрий Додолев - Мои погоны
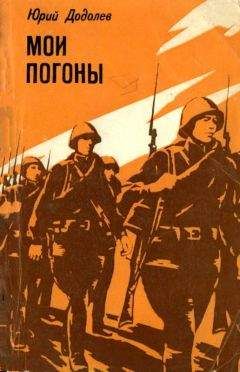
Обзор книги Юрий Додолев - Мои погоны
Юрий Додолев
МОИ ПОГОНЫ
Повесть
Мы узнавали мир вместе
с человеческим подвигом и страданиями.
Юрий Бондарев1
Я получил повестку «прибыть с вещами» 25 ноября 1943 года в самый обыкновенный, ничем не примечательный день, не зимний и не осенний: зимним его нельзя было назвать из-за слякоти — снега и грязи, превращенной сотнями ног в кашицу, напоминавшую цветом краску для полов, а на осенний он не походил потому, что уже выпал снег, рыхлый и влажный; он покрывал тонким слоем крыши, скамейки, газоны, напоминал накрахмаленную скатерть там, где не было пешеходов и автомашин.
Повестку принесли утром, когда я пришел, усталый, с ночной смены. Матери не было. На столе, под салфеткой, лежали сваренные в мундире, чуть теплые картофелины, ломоть черного хлеба, сдобренный сахарным песком, и записка: «Ушла на дежурство. Завтра вернусь около восьми вечера. Смотри, не опоздай на работу». Будильника у нас не было, и мать, уходя на ночные дежурства, каждый раз просила соседей разбудить меня. Я и сам обращался к ним с такой же просьбой, если надо было вставать утром. А днем я спал мало и всегда просыпался сам, задолго до заводского гудка.
Мать беспокоилась не зря. За опоздания и прогулы строго наказывали. И все понимали: эта строгость — необходимая, вынужденная мера.
Я читал и перечитывал повестку. Усталость как рукой сняло. Наскоро перекусив, я помчался в военкомат к капитану Шубину — с ним я познакомился полгода назад, когда проходил медкомиссию. В тот день призывники — парнишки 1926 года рождения — слонялись по коридорам, сидели на корточках, привалившись к поблекшей от частого прикосновения стене, дымили самокрутками, передавая друг другу обмусоленные «сороковки». Разговоры велись на одну тему: когда заберут и куда. Мои сверстники хотели попасть в авиацию, в артиллерию, в танковые войска. Двое из нас собирались стать гвардейскими минометчиками — так называли тех, кто стрелял из «катюш». Все говорили: «Лишь бы не в пехоту». Служба в пехоте представлялась всем нам самой тяжелой и самой опасной. Все мы надеялись остаться в живых, никто не говорил вслух, что кого-нибудь из нас могут убить или тяжело ранить. Но все, наверное, думали об этом: наши войска наступали почти на всех фронтах, и мы уже знали, что это такое.
Я хотел стать моряком. Очень хотел! Морем я бредил с детства, прочитал десятки книг, в которых воспевалось море и смелые, отважные люди — моряки. Но я понимал — на флот не возьмут: туда отбирали самых крепких, самых выносливых, а у меня с детства пошаливали нервы. Сам я этого не замечал, но так утверждала мать. «А вдруг?» — появлялась надежда. Я бы полжизни отдал, чтобы попасть на флот. В мечтах я видел себя в бескозырке с ленточками, с синим воротником на спине.
Из двери с облупившейся на ней краской выглянул капитан в суконной гимнастерке, с протезом вместо руки. Был он среднего роста, широк в плечах, в густых темно-русых волосах белела седина. Капитан обвел взглядом призывников и поманил меня пальцем.
— П-поможешь повестки в-выписывать, — сказал он, чуть заикаясь, когда я подошел. — С п-почерком у тебя как?
Я ответил, что почерк у меня неважный: так говорили учителя.
Шубин покопался на столе, дал мне четвертушку листка, вырванного из тетради:
— Н-напиши ч-что-нибудь.
Я обмакнул перо в пластмассовую чернильницу с узким горлышком, старательно вывел: «Смерть немецким окупантам!»
— Н-нормальный почерк, — сказал Шубин. — Только оккупанты с двумя «к» пишется. Ты сколько классов кончил?
— Шесть.
Капитан покосился на меня:
— Выходит, оставался?
— Один раз, — признался я.
По устным предметам я всегда получал «отлы» и «хоры», потому что легко запоминал прочитанное, а решать примеры, доказывать теоремы не умел. Математика требовала усидчивости, сосредоточенности, — того, чего не хватало мне. Именно поэтому на экзаменах по алгебре я получил «плохо» и остался в шестом классе на второй год.
Я выписывал повестки, стараясь не делать грамматических ошибок, вспоминал в затруднительных случаях правила из учебника русского языка, а капитан, перебирая разложенные на столе бумаги и подписывая некоторые из них, рассказывал про фронт. Он явно симпатизировал мне. На Шубина, наверное, произвело впечатление то немое обожание, с которым я посматривал на него, бывшего фронтовика.
Был он кадровым военным, командовал стрелковой ротой. В сорок первом, под Витебском, его контузило и ранило одновременно.
— Как? — спросил я.
— П-под бомбежку п-попал.
Несмотря на это, капитан казался мне героем. Он видел фашистов, стрелял в них.
— Т-троих уложил, — похвастал Шубин. Его веко дернулось, почудилось — капитан по-свойски подмигивает мне.
После госпиталя Шубина комиссовали, но он не согласился с этим, пошел в наркомат обороны, попросил оставить его в армии.
— П-полгода ходил, но д-добился, — сообщил Шубин. — Т-теперь вместо пенсии з-зарплату получаю и п-паек, П-правда, не фронтовой, но мне х-хватает.
— А на фронте как кормят? — поинтересовался я.
— Х-хорошо кормят. Д-девятьсот граммов хлеба, плюс п-приварок, не считая сахара и к-курева.
— Сколько хлеба? — Мне показалось, что я ослышался.
— Д-девятьсот граммов, — повторил Шубин.
Был я долговяз и тощ. Посмотришь в зеркало — жердь. Свой паек — шестьсот граммов хлеба — съедал в один присест. Часа полтора ощущал сытость, а потом снова начинало урчать в животе. Поэтому сообщение Шубина ошеломило меня. От волнения я даже кляксу поставил. Положил на нее промокашку и сказал:
— Заберите меня поскорее в армию, товарищ капитан!
— П-при первой в-возможности, — пообещал Шубин. И добавил: — Если м-медкомиссию пройдешь.
Медкомиссию я проходил последним. Один из врачей — очкастый, костистый, весь, казалось, состоящий из острых углов, — велел мне положить ногу на ногу. Я знал: нога подпрыгнет, когда по ней стукнут блестящим молотком. Решил обмануть врача, напружинил ногу, но она, злодейка, все же дернулась.
— М-да, — промычал врач.
«Не возьмут», — испугался я и сказал бодро:
— Это от переутомления, доктор. Весь день повестки выписывал.
— Может быть, может быть, — закивал врач.
Стараясь не выдать себя, я вежливо спросил:
— Скажите, пожалуйста, годен ли я?
Невропатолог пошептался с другими врачами:
— Можете не волноваться!
С тех пор я стал часто наведываться в военкомат, спрашивал Шубина — скоро ли? Мой рост приносил мне немало огорчений, я выглядел старше своих лет и, ощущая на себе косые взгляды, каждый раз испытывал стыд: казалось, люди удивляются, почему я, такой взрослый, высокий, не в армии. Меня так и подмывало подойти к людям и объяснить им, что мне лишь недавно исполнилось семнадцать, что мой год еще не призывают. Плакаты «Родина-мать зовет!», расклеенные на улицах, — воспринимались мной, как обращение лично ко мне. Я глядел на пожилую женщину с поднятой рукой и думал: «Я бы с радостью, но что поделаешь, если не призывают?»
Я мог бы не бегать в военкомат — в повестке было сказано все. Но я хотел увидеть Шубина, хотел еще раз поговорить с ним.
Я бежал по грязи и мокрому снегу, чувствовал — промокают ноги. Я мог бы добраться до военкомата на трамвае с пересадкой на троллейбус, но транспорт надо было ждать, а мне не терпелось. «Скоро, скоро, скоро, — пело внутри. — Скоро я буду получать девятьсот граммов хлеба — в полтора раза больше, чем сейчас».
Какая прекрасная штука — хлеб, особенно если он свежий. Даже в очереди стоять за ним — удовольствие. Стоишь и предвкушаешь его, хлеб, доставая время от времени карточку с еще не оторванным талоном, на котором обозначено число.
Хлебная карточка была для меня чем-то вроде отрывного календаря. По ней, по хлебной карточке, я вел счет дням. Нет одного талона — прошел день. Надо ждать сутки, чтобы снова получить хлеб. Утром проснешься, и первое, о чем подумаешь, — хлеб. Оденешься, умоешься и — булочную. А если с ночной возвращаешься, то вначале — за хлебом.
Год назад в Москве продавали хлеб из американской муки. Он был белый-белый и безвкусный. Его хватали только в первые дни. Наш хлеб лучше. Наш — с запахом!
В булочной всегда тихо. Все смотрят на руки продавщицы. Хлеб она взвешивает, как аптекарь лекарство. Все говорят, что в нашей булочной продавщица честная. Нам повезло.
Всем хочется, чтобы был довесок — маленький-маленький. Его можно положить в рот сразу, в булочной. Все выходят и жуют.
Как хочется хлеба — хоть кусочек. Набегает слюна. Вспоминаю: дома только пшено и хлопковое масло. На обед сварю суп, заправлю его этим маслом. А вечером, перед уходом на работу, буду пить чай с сахарином — сахара, знаю, уже нет: мать мне сегодня остатки на хлеб высыпала.