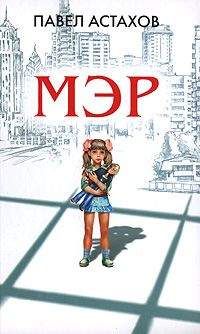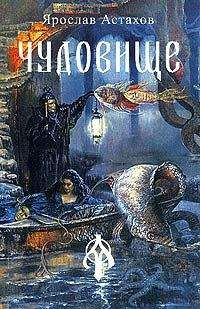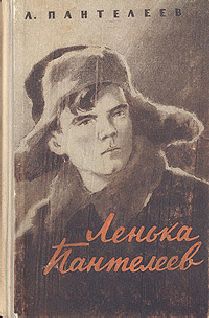Лёнька. Украденное детство - Астахов Павел Алексеевич
– И я предупреждаю вас, дуболомы, что сегодня я не допущу потери ни единого человека! Они нужны мне все в целости и сохранности для отправки в Германию, а не пополнения трупного рва.
– А если бунт и нарушение порядка? – выпалил один из хорватов-охранников, мечтавший как можно скорее вцепиться в горло кому-нибудь из столь ненавистных ему баб или детей.
Он, как и все эти призванные на подсобные кровавые акции «союзники», ничуть не боялся гнева или наказания от начальника. Он, как и все остальные, прекрасно понимал, что немецкая юрисдикция не распространяется на их хорватские головы и в любом случае, даже при обвинении в самом страшном преступлении, они будут переданы своему военно-полевому суду. А немецкое начальство сможет лишь в письменной форме изложить суть предъявленных претензий и свои пожелания. Между командованием усташей и немцами давно сложились неприязненные отношения, которые и делали этих палачей неуязвимыми для какого-либо правосудия или даже его видимости.
Понимая это, лагерфюрер прибег к хитрости и в этот раз явно обыгрывал своих союзников:
– Нарушения, а тем более бунт необходимо пресекать. Но я обещаю, что за каждого покалеченного до нетрудоспособности, а тем более за убийство буду лишать вас всех без исключения дополнительного пайка и еще штрафовать!
По строю охранников пробежал недовольный гул. Начальник решительно поднял руку:
– Молчать! Отставить обсуждение! Послушайте до конца. Так вот, за потери среди лагерных заключенных завтра на отправке и сегодня на осмотре буду наказывать лишением пайков, довольствия и штрафом. Но! Но… Еще раз но! Если вам удастся полностью сохранить их в размере пятисот человек, а именно этого требует от нас Берлин, то я обещаю премию всем, кто участвует в этой отправке, и плюс к пайку дополнительно по бутылке хорошего шнапса каждому.
По строю пронесся теперь уже вполне одобрительный гул. Видя, что руководитель меняет гнев на милость, фельдфебель решился еще на один вопрос:
– Господин начальник, а что делать с теми, кого поместили в карцер по вашему приказу? Там еще двадцать человек.
Безусловно, его абсолютно не волновала судьба девятнадцати русских женщин, но очень заботила единственная хорватка в их подразделении, так нелепо и неожиданно попавшая под «раздачу» лагерфюрера. Тот сразу же оценил степень актуальности этого вопроса для просителя-надсмотрщика.
– А? Заботитесь о вашей землячке? Вот она не позаботилась о ваших соплеменниках, когда эта сумасшедшая русская баба утянула их в могилу. Ладно-ладно. Сегодня особая ситуация – на счету каждый человек. Даже эти проклятые бабы, которые вдруг понадобились на бирже во Франкфурте. Идите и лично освободите всех. Проследите, чтобы их привели в божеский вид и отправили по местам. А вашу красавицу… что с ней делать? Да забирайте к себе! Наказание я отменяю. В звании ее… восстанавливаю. Выдайте ей новую форму, если, конечно, она еще жива, – очень расчетливо и трезво рассудил гауптштурмфюрер.
Теперь выходило, что он не только строгий, но и справедливый начальник над этим сбродом национал-хорватов. За освобождение своей сородницы они теперь будут служить ему как собаки. Однако он ясно понимал, что такая преданность не продлится дольше недели. Но этого сейчас было вполне достаточно для формирования нового рабского эшелона и скорейшей отправки его в Германию, во Франкфурт-на-Майне.
На войне, в которой вам противостоит все население, включая животных и даже природу, невозможно думать и измерять все долгими временными категориями. Выжил сегодня – ну и хорошо. Пей, ешь, готовься к новой схватке завтра. И так каждый день, час и миг, который часто решал твою судьбу. Хоть и победным маршем шли немцы к Москве, но все отчаяннее сопротивлялись им русские. Причем не только регулярные части, но и горожане, крестьяне, даже слабые женщины. Да что там женщины – и сопливые дети, которые взяли оружие и воевали с хорошо вооруженными закаленными бойцами вермахта. Это было невозможно ни вообразить, ни представить, но приходилось с этим считаться и учитывать, иначе можно было потерять не только должность, но и жизнь.
Обрадованный столь неожиданным помилованием своей землячки, усташ-фельдфебель выбежал из кабинета начальника и уже через минуту был возле железного ящика. Вскрыв его, он обнаружил в живых пятнадцать женщин. Они лежали вповалку на полу без сознания. Без еды и воды под палящим солнцем, которое в эти осенние дни добирало свой летний урожай, они едва шевелились. Растолкав и раздвинув тела полуживых узниц, фельдфебель вытянул наверх и оттащил в сторону и свою любимую подчиненную. Она была в полузабытьи и с трудом пыталась приоткрыть непослушные отекшие от невыносимой адской прожарки веки. Подхватив ее на руки, взволнованный усташ помчался в медпункт. Он старался спасти эту умирающую от жестокого наказания немецкого начальника девушку-хорватку.
Остальные женщины постепенно приходили в себя и помогали другим, но пятеро из наказанных так и не очнулись. Подошедшая немка-анвайзерка распорядилась отнести их за забор и сбросить в ров, в том месте, где и началась эта трагическая история отчаянного преступления и зверского наказания.
Акулина поднялась на четвереньки и с огромным трудом доползла до небольшой грязной лужицы за железным контейнером, в котором они отбывали свое смертельное наказание. Легла на землю и жадно напилась грязной мутной воды. Утолив жажду, она поползла в сторону землянки. Ее никто не останавливал, так как лагерные охранники и анвайзерки уже знали о приказе лагерфюрера собирать всех, кто мог двигаться и стоять на ногах, для срочной отправки эшелона во Франкфурт.
Между рядами колючего забора поставили пять столов, на которых стояли коробки с бирками, жетонами и веревочками. За столом сидел писарь с амбарной книгой и записывал каждого подходящего и получающего бирку и жетон. На картонном прямоугольнике писали имя и фамилию владельца с датой рождения. Жетон с номером надевали в виде «ошейника». Соответственно на самом жетоне уже значился только номер, который каждый должен был выучить и знать наизусть. Отныне и на долгое время они теряли свои имена, а обретали лишь номер. На него нужно было отзываться, и наоборот: при любом обращении к человеку с биркой и жетоном тот был обязан моментально ответить, назвав громко и четко свой личный номер, вытисненный на жетоне. Заминка, ошибка, нерасторопность при ответе грозили неминуемым наказанием и расправой, вплоть до убийства на месте. После двух-трех инцидентов информация о таких случаях моментально расходилась по всем лагерным жителям, и никто уже не решался на эксперименты и слишком рискованные ошибки.
Акулина, чудом спасшаяся из раскаленного карцера и вернувшаяся к уже поправившемуся сыну Лёньке, получила новый номер и запись в «Книге учета рабочей силы». Сам Лёнька, мать и дочь Колесниковы вместе с Настей Бацуевой, вдовица Олёна и многие другие сотни женщин и деток также получили идентификационные бирки и жетоны, предварительно назвав и занеся в журнал полные данные. Их переписали и пометили как скотину, которую пересылают с места выпаса на мясобойню, предварительно согнав в один загон и пересчитав по головам всех здоровых и выбраковав больных и покалеченных.
Сегодня хорватским надзирателям, хотя у них отчаянно чесались руки, было скучно и тоскливо. Им не дали отомстить за убитых соплеменников, при этом пообещали еще ущемить в жратве и деньгах. Это все отчетливо услышали и теперь, скрежеща зубами, пихали к столу и от стола всех по очереди, переписывая и отмечая. Таким образом, к концу дня, как и обещал начальник лагеря инспектору подполковнику, в лагере собралось полностью переписанных триста двадцать пять женщин и сто шестьдесят два ребенка в возрасте от полутора до пятнадцати лет. Даже с учетом отпущенных и впопыхах реанимированных четырнадцати женщин из карцера до полного комплекта в пятьсот голов не хватало всего тринадцать человек. Лагерфюрер, узнав про недостачу в таком размере, от раздражения переломил свой хлыст-палку и швырнул ее в явившегося с докладом в кабинет фельдфебеля-усташа: