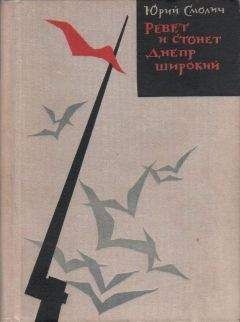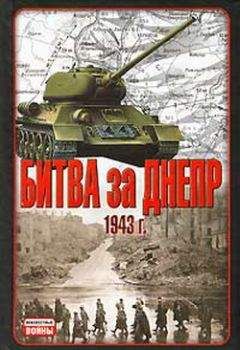Иван Сотников - Днепр могучий
Где, интересно, сейчас дед Иван Кириченко, знаменитый партизан восемнадцатого года? Все, бывало, на одышку жаловался. Небось забыл про все «болести», как снова ушел в партизаны. А Поливайко, на всю Корсунщину известный пасечник? Каждую пчелку, бывало, берег. Какие меда собирал! Этот уже стар, отвоевался. Или опять тряхнул стариной? А Максим Петренко, голова колхоза имени Ленина? Какой был рачительный хозяин, как умел беречь колхозную копейку! Поди-ка плачет теперь кровавыми слезами, глядя на порушенное артельное хозяйство. А красавица Мария Фесенко, гремевшая рекордами по всей республике? А Василь Павленко из Джурженцев — лучший колхозный бригадир? Семь дочерей вырастил, одна краше другой. Где они и что с ними? Воюют или томятся в германской неволе?
А сколько простых хлеборобов, скромных, партийных работников, мирных хозяйственников стало партизанскими вожаками! Вот Авксентий Хоменко из Бердичевского горкома партии, перебравшийся в Корсунь. Теперь он возглавляет крупный партизанский отряд, ставший грозой для фашистов. Или старый коммунист Кирилл Солодченко. Это он со своими хлопцами совершил дерзкий налет на запасный немецкий полк и разбил его. Говорят, отпустил бороду и его, пожалуй, не узнать. А Василий Щедров? До войны был простым лесным объездчиком, а теперь командир партизанского соединения.
Да разве перечислишь всех! Их тысячи и тысячи, героев труда и борьбы. С таким народом горы можно ворочать. Сдюжат и не отступят ни перед какими трудностями.
Вдали показался город, и мысли сразу перенеслись в Киев. Что ему скажет сейчас карта? Как изменилась обстановка за время его отсутствия? Члена Военного совета ждали дела насущного дня, и он был полон сил и решимости.
3Колонна пехоты растянулась по старому чумацкому шляху. По обочинам стояли вековые ветлы — корявые, дуплистые. Ветер раскачивал их голые ветви, и деревья были похожи на древних старух, в каком-то исступленном отчаянии заломивших руки. На небе грудились свинцовые тучи; ветер гнал их, и они, наползая друг на друга, двигались медленно и неотвратимо. Все окрест было тревожным и настороженным — и голые ветлы, и бесснежные вымокшие поля, и дальние перелески, и черная лента дороги.
Колонна двигалась в каком-то странном безмолвии. То ли плотный промозглый туман, стлавшийся над землей, глушил все звуки, то ли мрачный вид окружающей природы передавался людям и давил на душу, но не слышно было обычных на марше шуток, отрывочных разговоров, подбадривающих команд. Только тяжелая мерная поступь и глубокое дыхание сотен людей.
Из лощины дорога пошла круто на изволок. Когда голова колонны перевалила за гребень, движение вдруг приостановилось и по рядам пошел тревожный гул. Задние еще не понимали, в чем дело, а этот гул все катился и катился. Движение возобновилось, и, когда вся колонна вытянулась на изволок, взорам людей предстало то, что заставило остановиться передних и вызвало этот странный гул, похожий на вздох сотен людей. Не доведись увидеть такое!..
По обочинам дороги стояли сколоченные из досок кресты, и на них распятые люди; иные пригвождены к стволам ветел; заживо зарытые по шею в землю и принявшие мученическую смерть; повешенные, расстрелянные. А слева от дороги пепелище большого села.
По всему было видно, это случилось день или два тому назад. Прошли фашистские каратели, и вот…
Потрясенные, в суровом безмолвии стояли герои Днепра и, задыхаясь от ярости, взирали на плоды кровавой работы гитлеровских палачей.
Только спустя несколько минут из рядов послышались гневные голоса:
— Изверги!
— Нелюди!
— Смерть им! Смерть, смерть, смерть!..
И это звучало как приговор — грозный и неотвратимый.
Тарас Голев стоял будто окаменевший. Нечем было дышать. На какой-то миг чуть было не подкосились ноги. Может, и его Людку вот так же закопали в землю или распяли на дереве у безвестной дороги? От одной этой мысли будто застыла кровь в жилах и прекратился ее живительный ток. Но вот уже руки сжались в железные кулаки, и страшная сила поднялась из каких-то неведомых глубин, и старый солдат был готов на бой и подвиг, на все невозможное. Горе врагу, встретившемуся с такой испепеляющей ненавистью.
Тарас взглянул на стоявшего рядом Глеба Соколова и даже не узнал его: лицо без кровинки, сузившиеся глаза полны лютой ярости, зубы намертво стиснуты. Он, видно, с трудом разжал челюсти и проговорил шепотом:
— Тарас Григорьевич, да их теперь зубами рвать! Истреблять без всякой пощады!
— Так, так, сынок. Истреблять. Как бешеных собак.
Подошла Таня, страшно потрясенная, едва владеющая собой.
— Тарас Григорьевич, родной, что же это, а?
Голев по-отечески положил тяжелую руку Тане на плечо:
— Горе, доченька, горе народное!
Таня в смятении глядела на жуткие лица распятых, на их руки, затекшие кровью, на истерзанные тела. Как страшно им было умирать!
Ей вспомнилась вдруг новогодняя ночь и рассказ Азатова про немецких карателей. А может, и его родные на таком же кресте? А может, и ее мать замучена вот так же?
— Крепись, доченька, крепись, милая, — как мог, успокаивал ее Тарас.
Прозвучала командами колонна тронулась по этому чудовищному коридору смерти. В тяжелой поступи солдат чувствовалась такая грозная сила, перед которой не устоять никакому врагу. Прошли мимо огромного щита, на котором красным, будто кровью казненных, было написано: «Воин! Запомни и отомсти!», а по колонне из конца в конец уже неслось грозное:
— Месть!
— Месть!
— Месть!
Полк заночевал в небольшом городке. Голев продрог за день, и его знобило. Наскоро поужинав, он забрался на печь и с наслаждением растянулся на горячих кирпичах. Хотелось уснуть и забыться от всего, что довелось увидеть, но сон не шел. Перед глазами стояла страшная картина разгула смерти. Бойцы пили чай, а старик хозяин рассказывал про черные дни оккупации.
— Мало осталось людей в городе, очень мало. Вон на площади серый двухэтажный дом, — подошел он к окну, — видите, окна в нем кирпичами заложены и оставлены лишь узкие прорези, как в тюрьме. Туда сгоняли девчаток перед отправкой в Германию, на фашистскую каторгу. Тысячами угоняли…
А перед отступлением, — минуту спустя продолжал старик, — гитлеровцы схватили многих жителей, заперли их в одном из зданий и сожгли заживо. Сейчас там одно пепелище и груды обгоревших человеческих костей.
Голев застонал, скрипнул зубами.
— А на окраине, — все не унимался старик, перечисляя злодеяния захватчиков, — есть у нас «Седьмая площадка». Страшное место, сынки. Там дни и ночи гремели выстрелы. Неделями не прекращалась адова работа. Сотни и тысячи советских людей загублены.
Голеву стало вовсе душно. Что за мука! Азатов лежал рядом. Глаза его сузились, губы вздрагивали. Вот тоже мученик. Его на трое суток отпускали на розыски семьи. Полетел радостный, возбужденный — три года не виделся, а вернулся — страшно смотреть на него. За весь вечер слова не вымолвил. Что ж, пусть отойдет. Но Сабир вдруг повернулся к Голеву и зашептал в ухо:
— Ох и тяжко, Тарас, просто сил нет. Я, бывало, сочувствовал тебе, а теперь, понимаешь, завидую: может, твои дети найдутся. А у меня теперь никакой надежды.
Помолчав с минуту, он заговорил снова:
— Мать зарубили, Ганка пропала, сынишку танками разорвали. Детишек брата уморили в душегубках. А сколько людей живьем затолкали в топки заводских печей!
Голев онемел от ужаса. Слова Сабира терзали сердце, наполняя его кипящим гневом.
— Слышал про Лысую гору в Бердичеве? — снова зашептал Сабир. — Немцы согнали туда тысячи жителей и расстреливали ни за что ни про что… Понимаешь, земля не просыхала от крови. Нет, скажи, как унять сердце?
Голев весь сжался, закаменел. И чтобы не раскрошить зубы, он закусил угол подушки.
4С совещания политработников Березин возвратился поздно ночью и сразу же доложил командиру полка о своей поездке. Они с час просидели над картой. Правда, им еще не было известно, где и когда начнутся новые бои и какая задача выпадет на долю их полка, но одно ясно: наступление не за горами, и оно будет иметь важнейшие последствия.
Щербинин собрал командиров и политработников, чтобы разъяснить им новую обстановку. Жаров слушал с живейшим интересом, Капустин с досадой: будто нельзя подождать до утра, и так ни минуты отдыха. Черезов сидел как изваяние, и лицо его было непроницаемо. Вот наградил бог хладнокровием! Из слов Щербинина и Березина офицеры сделали вывод: обстановка накалялась, и полк с часу на час может оказаться в серьезном бою. Изнурительные марши последних дней обрели новый смысл и значение. Отпуская офицеров, Щербинин приказал перед выступлением провести в ротах беседы с бойцами.
Березин остался в штабе. Наскоро закусил, выпил кружку чаю. Взглянул на часы. Есть еще время и передохнуть. Совсем было улегся на жесткую койку, как раздался сигнал воздушной тревоги. С досадой вскочил и, одевшись, вышел на улицу. Прожекторы уже расчерчивали низкое темное небо. Ударили зенитки. Сонные бойцы, чертыхаясь, забирались в щели. К счастью, немцы пролетели стороной, сбросив бомбы в чистом поле, и все обошлось благополучно. Только вот отдых был нарушен. А Березин отлично знал, что такое отдых. Это силы на весь завтрашний день, и их надо беречь и накапливать.