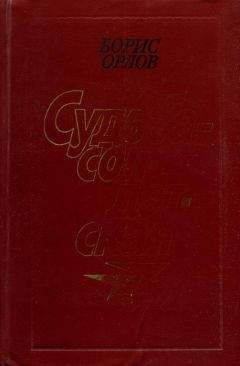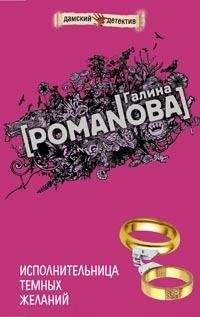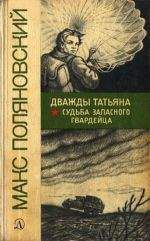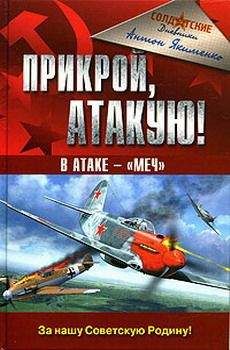Лев Якименко - Судьба Алексея Ялового
И тут Алеша уже всерьез и неожиданно для самого себя спросил:
— А почему умирают люди?
Память оставляет по себе тот, кто уже не живет. Холодная погребальная дрожь пронзила его.
Мама начала говорить о биологии, о естественном старении.
Все взбунтовалось в Алеше. Жить для того, чтобы стареть и умирать. Ему казалось, открылась мрачная, безнадежная истина. На мгновение он почувствовал себя несчастным…
— Ты капусту полил? — с порога грозно закричала бабушка. — Ах, чтоб тебя лихоманка забрала! То с хлопцами гоняет, то от книжки не оторвешь. Бери ведра, капуста пропадет!
У жизни были свои законы!
Забылось мигнувшее сомнение. Мучительно возвернулось в тот трудный год.
Как ни повернешь, все на острое натыкаешься. Колет, ранит. Всюду недруги, враги…
Первую четверть в школе закончил: двойка по геометрии, по другим предметам тройки, одна пятерка. С первого класса привык в первых учениках. Теперь — все на дыбы.
— В школу не пойду!
В тот год многое было как в тумане.
«…Напьяли соби куреник… По варенику едят…»
Вареники разве что во сне увидишь. И татуся не было в «куренику»… Подался в дальние края: «зароблять гроши. Двойную ставку посулили. Пошептались с мамой, решились. Поплакала бабушка. И остались они одни. Без отца. На весь долгий год.
Скользили, разъезжались ноги на бугристой тропке. Петляла она сбоку дороги, по бровке рва, подходила к хатам, забиралась в кустарник.
Вспоминались простые истории…
Как кабана кололи. Под рождество. Лучшее время считалось. Разъевшегося хряка, еле передвигавшегося на коротких толстых ногах, подманивали миской с едой. Шел до назначенного места. Тут его валили. Распинали на мерзлой кочковатой земле. Далеко разносился в морозном с дымком воздухе пронзительно жалобный визг.
Алеша — в хату, затыкал уши. Не мог слышать этого надсадного вопля.
Веселый час приходил позже. Смолили кабана, несло горелой шерстью, летучей соломенный дым таял в воздухе. Поливали горячей водой, очищали скребками, обкладывали соломой, накрывали ряднами. Ребятня сбегалась со всей улицы, все друзья-приятели, наваливались на кабана: «душили». Сало особенное получалось. В награду — хвост с тающими хрящиками, продымленные зарумянившиеся концы ушей. Уминали, празднично светились закопченные рожицы.
Пиршество развертывалось к позднему вечеру. Про то, как на огромной сковороде вплывала печенка в жарко пылающую печь, как шипела она, темнела, источая нежнейший запах, едва тронутый горчинкой, про то, какие румяные колбасы складывали в горшки, заливали смальцем, вспоминать было невозможно. Ноги не несли. Останавливались.
Далеким, невозвратным сном казалось.
Как покупали корову…
На заемной бричке — своей тогда не было, — на чужих конях подались в немецкую «колонку». Знаменитые на всю степь коровы водились у немцев-колонистов. В царские времена осели они то тут, то там между украинскими селами, хуторами, панскими имениями.
Комбед предоставил ссуду, и татусь решил если уж обзаводиться коровой, то породистой.
Алеше все в диковинку, будто в другое государство попал. Въехали в селение, бричка ровно застучала по серым подогнанным камням. Что дорогу вымащивают камнем, чтобы в грязи не застревать, впервые увидел. Остановились перед высоким домом из красного кирпича под черепицей. За высоким забором с широкими воротами виднелись черепичные крыши сараев, конюшни.
Хозяин вышел через калитку по мощеной дорожке. С вилами, в высоких сапогах. Брезентовый жесткий фартук. Ишь ты! Как у чистоплотной хозяйки.
Алеша застеснялся своего вида: босой, рубашка без пояса, на голове не волосы — кудлы, торчком во все стороны. Спрятался за отца.
Купили корову красной породы, с белым пятном между рогами. Цены ей не было. По ведру молока надаивали. И утром и в обед.
Во вьюжную февральскую ночь увели Краснуху. Сбили замок в конюшне. Перед этим отравили Рябчика — верного стража. Следов не осталось. Замело, перенесло снегом. После выяснилось: Костя, непутевый сын чабана деда Корния, был главный наводчик. Привел воров.
Жутковато было в глухие волчьи ночи. То на одном конце села ограбят, то на другом. У Петра Гаманюка, продавца в магазине потребкооперации, бандиты всю семью перевели. Мать-старуху, жену, дочь-семиклассницу. Пытали, рвали тело щипцами, огнем палили. Требовали указать, где деньги. Слух был, нажился Гаманюк в тяжелый год на незаконных сделках. Страшно было смотреть, когда из хаты выносили один за другим изуродованные, ничем не прикрытые трупы.
Яловые вставили железные решетки в окна. Корову перевели в сени. И корове и людям — мука. Тесно, холодно. Жалобно промычала корова две ночи — вернули ее в конюшню. Бандиты, казалось, только того и ждали.
Могло случиться, что и мамы лишился бы Алеша… Долго не спала она в ту ночь, тревожило, томило ее недоброе предчувствие, все выглядывала через окошко, не подходит ли кто к конюшне. Один из бандитов стоял у хаты с обрезом. Рассказывал Костя — пришел виниться, — когда мама отвела плотное одеяло, которым было занавешено окно, бандит от неожиданности едва не пальнул. Отскочил к двери, решил выждать, выйдет или нет. По счастью, ничего мама не заметила, не вышла. Не решилась выходить во вьюжную неприкаянную ночь.
Все весенние надежды, все голодные ожидания были связаны с коровой. Вот отелится Краснуха, и можно жить — молоко пойдет! Перебьемся до лета!
Поддержала их титка Мокрина. Вдова, беднее не было семьи на их улице. Шмыгнула как-то в хату со своим ласковым, вечно озабоченным лицом, тарелку на стол — и назад, домой, по своим делам. Оранжево рдеющее сладкое молозиво было в той тарелке. Отелилась корова у титки Мокрины. То ли по доброте сердечной, то ли вспомнила вдова, как мама помогла ей, только и она отплатила добрым Яловым в самое трудное время. Через день-другой с Мишкой присылала кружку молока.
— Для детей…
«У куренику сидят, по варенику едят…»
От школы домой идешь, не всегда знаешь — доберешься ли… Голова кружится, рукой пот вытираешь. Остановишься — совсем плохо. Ноги слабеют, дрожат, как у новорожденного теленка.
Жалел себя Алеша… Виделся как бы со стороны на весенней грязной дороге ослабевший мальчик. Не устоит, вот-вот упадет под злым ветром. Про себя знал: есть еще силы, устоит, дойдет. Но почему-то жалко было себя. Своих дрожащих ног в сапогах с налипшей тяжелой грязью. С места их сдвинуть — все равно что кувалду поднять. И никто тебя не жалеет, никому ты не нужен.
Мама рядом стоит, дышит, как после пробежки, тоже несладкая и для нее дорога, делает вид, что все обыкновенно, разглядывает только-только вылупившиеся на вербовой ветке слабенько вздрагивающие сережки.
— Смотри, Алеша!
Алеша приходит в полное расстройство. Что он, вербы не видел! Тут человек погибает, а ей хоть бы что! Он хрипло, с сапом хватает воздух, подгибает ноги, клонится вперед — вот-вот рухнет прямо в грязь, на дорогу.
Мама уходит вперед, Алеша стоит. Не двигается. Мама оглядывается:
— Ты уже отдохнул?
— Я не могу идти! Сил нет, понимаешь?
— Ты хочешь, чтобы я тебя на руки взяла? — У мамы ровный, смертельно усталый голос. — Пойдем, сынок. Еще немного, и мы дома… Галушки сварим.
Лучше бы она не вспоминала про эти «галушки». У Алеши лютые колики в животе, темное кружение. Все равно что приговоренному напомнить про плаху и петлю. Такие были галушки в тот год.
В пайковой муке, которую выдавали, мелкие остья. Ни отсеять, ни выбрать. Хлеб не испечь. Одни галушки выходили. Остья застревали глубоко во рту, кололи, сопишь, как пес, у которого мелкая косточка застряла где-то в горле, отхаркиваешь, отплевываешь. В то время все было в невыносимую обиду.
Выскочил Алеша из-за стола. В горле саднит, дерет.
— Не буду есть! Ничего не буду…
В другой раз всерьез полез в петлю. Закрылся на крючок. Взобрался на стул, прикрепил веревку к потолку, к тому месту, где лампа висела.
До этого во всех взрывах, метаниях было подобие игры, когда ты подбираешься болезненным обостренным чувством своим к той мерцающей тускло грани, за которой ты уже не ты, тебя нет, ты не существуешь. Ты пока еще дышишь, вокруг тебя дневной свет, ты стоишь на своих ногах, и в твоей доброй воле п е р е й т и или не п е р е й т и. В тот раз, запершись в залике и взобравшись на стул с петлей на шее, он пережил черное, затягивающее в бездонную воронку мгновение… Он в самом деле мог оттолкнуть стул и повиснуть. Надвинулось, закружило яростное, вихревое в немом крике:
— Жить зачем? Кому она нужна, такая жизнь!..
…Гремело в праздничном переливе свечей и лампад многократно повторенное: «Всякое дыхание да хвалит господа!..»
В школу ходил. За железной оградой двери настежь в церковь, из них выплывал синий вечерний дымок. Подошел ближе — в темной глубине мерцающий блеск множества огоньков. На паперти людей не было. Оглянулся Алеша, не видит ли кто, куда собрался учительский сынок, и нырнул в церковь. За старухами в темных платках пристроился. Не успел оглядеться, священник в праздничном облачении провозгласил с амвона торжественно громко, нараспев: «Всякое дыхание да хвалит господа…»