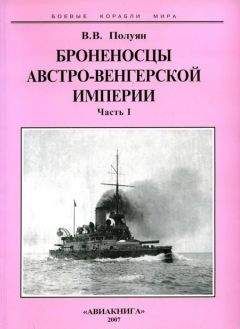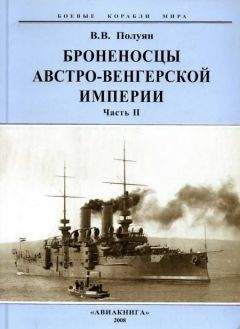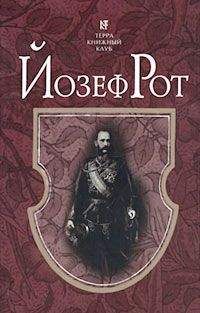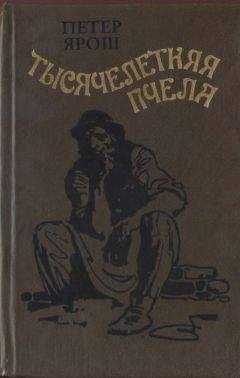Яромир Йон - Вечера на соломенном тюфяке (с иллюстрациями)
Итак, наступил наконец тот великий день, когда врачи и сестры от всего сердца поздравили его, ибо он смог уже заменить один костыль палочкой.
Это был памятный день.
Напрасно думают, будто у физически неполноценного человека, вынужденного соблюдать предосторожности и различные ограничения, убогая жизнь. Совсем наоборот. Хоть и менее яркая, она богата столькими маленькими радостями и разнообразными удовольствиями, о которых человек с нормальным, автоматически двигающимся телом не имеет даже отдаленного представления. Многие люди, исторгнутые из суетливо копошащегося человеческого муравейника, вознаграждают себе эту утрату тем, что углубляются в созерцание собственной души и вкладывают в свои отношения с миром больше чувств, нежели в самые страстные молитвы.
Истинная правда! Они даже более счастливы, чем множество людей с прочными сухожилиями.
А разве красота не выступает иногда в соединении с душой пустой и никчемной?
Красота может причинить душе боль, но изуродовать прекрасную душу нельзя ничем.
Ровно через год Властислав стал обходиться без второго костыля.
Этот день был еще более памятным, ибо отныне он мог уже ритмично стучать по земле своими двумя палочками.
Слякотные тропинки больничных сквериков, городские тротуары и мостовые, дома, аркады, лавки молчаливо переносили стук двух его опор.
Сам он тоже предпочитал молчать. Ведь и дикие звери молча ходят в своих клетках, туда-сюда — безо всякой цели.
Он отвык говорить — тем чаще размышлял он в своем санаторном одиночестве и днем и долгими бессонными ночами, в будни и в тягостные часы воскресений и праздников.
Да и могла ли быть приятной людям застывшая гримаса вместо улыбки на лице изуродованного офицера?
Как выразить свои чувства с помощью одного глаза?
Едва ли может понять это оцепеневшее страдание человек, которого никогда не посещала мысль о самоубийстве.
Властислав сожалел, что не может смеяться.
Это было упущением со стороны врачей. Их вина перед ним, оплошность.
Но еще большей ошибкой было оставить ему карманное зеркальце.
Yncipit tragoedia[89]
Спустя два года после того, как Властислав уехал на войну, два местных жителя — городской ревизор (заместитель председателя комиссии по распределению продуктов) и владелец бакалейной лавки (член комиссии), которые дважды в неделю заходили в станционный ресторан выпить пива (по отправлении последнего поезда), сообщили своим супругам, что лейтенант Золотце благополучно вернулся.
Рано утром ему принесли в гостиницу две коробки.
В одной был кулич из белейшей муки, а на визитной карточке написано: «Приятного аппетита».
В другой было полкилограмма масла, ветчина, на визитной карточке же написано: «Приветствуем вас! На здоровье!».
В кофейной гостиницы «У золотого льва» еще и стулья лежали на мраморных столиках, когда Властислав уселся на своем прежнем месте возле окна, уткнувшись в чашку чая с малиновым сиропом.
Словно бы в полусне, разглядывал он блюдце и нарисованную на нем синюю монограмму гостиницы, Обвел своим единственным глазом никелированный поднос. Устремив взгляд на четко проступающую марку фирмы «Stiefenhofer», он размышлял, почему официант забыл принести ему ложечку. Почему он забыл, голова садовая?
Ведь без ложечки нельзя пить чай.
Он мог бы, конечно, размять шипучую таблетку сахарина перочинным ножом или карандашом, даже пальцем. Чего там!
В кофейной было пусто.
Мальчишка-официант без воротничка, в шлепанцах, снимал стулья со столиков, лениво шаркал метлой и, прислонясь к холодной печке, разглядывал единственного посетителя.
Полусонный парнишка (до поздней ночи читал детектив) вспомнил, что в одной книге с картинками он видел обезображенное лицо Иуды. Под картинкой была надпись: «Тот, кто Его предал».
Вспомнил описания мук Иисуса и искаженное гримасой Иудино лицо.
Горько пришлось расплачиваться Иуде за свое предательство. Христиане отрезали ему ухо! Разорвали лживые уста, секли лицо крапивой. С тех пор у Иуды рот перекосился, течет слюна, речь невнятная. Плетка какого‑то разъяренного солдата выхлестнула ему глаз. Иуда тронулся в уме. Смотрит тупо, слюнявится. Страшная кара за то, что предал Справедливого. И только когда повесится он на осине, перестанут трястись его бледные, мертвые руки, а перекошенное лицо будет еще отвратительнее: язык вылезет, и весь он посинеет, как тот батрак, что повесился у них в хлеву на ремне. Дернется телом — бле-е-е — конец…
Властислав ниже клонит голову над чашкой чая.
Он ехал целый день и целую ночь из Штырского Градце.
Заезжал навестить по дороге мать, она расплакалась.
Поцеловал сестру, и она тоже плакала.
Сначала одна, потом другая непонятно почему выбежали из комнаты.
Когда вернулись, у обоих были красные, опухшие глаза.
Очень глупо с их стороны.
Он спросил про Ксеркса.
Ксеркс давно сдох. Боялись об этом написать.
На память ему остался ошейник. А на что он ему теперь?
Затем он попрощался. Мать его поцеловала. Поцеловала сестра.
Когда поезд тронулся, он увидел, что мать клонится, падает. Сестра подхватила ее. Кто‑то подскочил к ним.
Под-ско-чил.
Ничего особенного, мать часто падала в обморок.
Он думал о Ксерксе.
Думал о службе. Ведь он ехал в свою часть.
В купе второго класса от самой Иглавы попутчик-майор произносил речи. Как это он говорил?… Ага — планомерно! Через каждое слово: планомерно. Мы наступаем планомерно. Ты вылечишься, камрад, планомерно…
В полку не позаботились прислать на вокзал ординарца.
Хотя сестра телеграфировала насчет ординарца… а?
Пошлют планомерно… Все планомерно…
Он рассмеялся про себя. Вслух смеяться отвык давно. Но даже теперь почувствовал, как стянули лицо швы.
Чай остывал на мраморном столике, закапанном липким соком. Он закурил сигарету. Придвинулся к окну. Смотрел на городскую площадь.
Все как прежде!
Фонтан с витым столбиком. Горбатые мостовые, лужи, дома с лепными гербами на фронтонах. Блестят от влаги этернитовые крыши. На углу площади винный погребок Менелика. Его владелец очень боялся щекотки. Хи-хи-ахи-хи — хватит, ой, хватит — хи-хи-хи! В винной лавке возле ратуши жила Ксерксова собачья любовь. Звали ее… звали ее…
В первом этаже того старого особняка жил обер-лейтенант… обер-лейтенант… Ва… Валат… Ха-Халат… Калат… Палат… Эх!
По площади идут две барышни, две сестры. Они одинаково одеты, на них одинаковые праздничные платья. Одна яркая блондинка, другая жгучая брюнетка. Не просто идут — пританцовывают. Стреляют глазками.
Властислав смотрит, вспоминает старую шутку, стянутой шрамами коже на лице — больно.
Он кричит:
— Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля!
Голос его одиноко раздается в пустой кофейной. Мальчишка очнулся, вскочил, подбежал к столу, поклонился.
— Чего изволите?
Властислав смотрит в окно на девушек. Машет им рукой.
Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля!
Мальчишка уходит.
Через площадь бежит мясникова собака.
Из-под ворот соседнего дома вылезли гуси, разлетелись с криком.
Мимо книжного магазина, у которого до сих пор опущены жалюзи, шагает чиновник окружного управления в мундире и парадной фуражке.
Сегодня воскресенье и тезоименитство государя императора.
Грохочет по булыжнику телега. Хромые кони тянут воз сена, на возу сидят двое драгун.
Жена бакалейщика выходит из лавки, садится возле двери и принимается вязать чулок.
Из-под арки, от винного погребка Менелика вышел незнакомый офицер.
Боже мой, где же все товарищи? Где веселый Пепрле, где вечно озабоченный седой Флориан, толстый Соломон, который так немилосердно нахлестывал лошадей на манеже?
Куда подевался ротмистр Вестерманн — где, где они все?
В кофейной холодно.
За дощатой перегородкой — зал ресторана.
Там они, бывало, сидели и играли в карты. Обер-лейтенант Кршепинский играл на пианино «Веселую вдову».
Из кофейной дверь ведет в пивной зал.
Раньше здесь царила красавица Ирма, разливала пиво.
Куда она исчезла?
Властислав поворачивается и заглядывает туда своим единственным глазом.
Там торчат без дела два огромных пивных крана.
От напряжения глаз подергивается. Слезится.
В кофейную входит старший официант.
Мальчик показывает ему на единственного посетителя и шепчет: «Пан кельнер, этот пан вдруг как закричит…»
Пожилой напомаженный официант, припадая на одну ногу, направляется к Властиславу.
— Изволили звать, ваше благородие?
— Что?
— Вы кричали как будто?
— Кто?