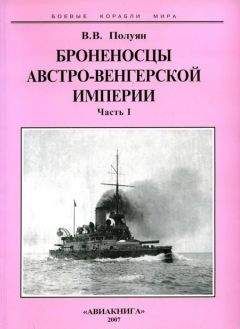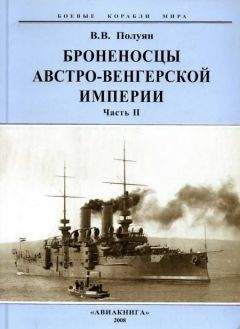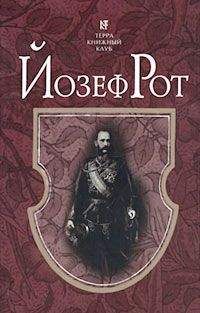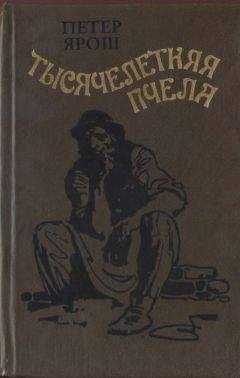Яромир Йон - Вечера на соломенном тюфяке (с иллюстрациями)
Почему все-таки руки у него были словно из чистейшего розового мрамора? И кожа детская, нежная, как у грудного младенца?
На мизинце левой руки сверкал перстенек — в серединку его был вделан бриллиант.
Бриллиант чистой воды. Дар влюбленного сердца.
Браслет в виде цепочки шаловливо позвякивал на левом запястье.
Мундир на нем был не серый, как могло показаться, а цвета бледного золота с шелковистым отливом.
Тот, кто близко видел Властислава, напоминающего ангела с картины Рафаэля «Мадонна ди Фолиньо», удивлялся не только нежному, здоровому цвету лица красивого юноши, не только его изящной походке, но и улыбчивому, открытому взгляду, в котором словно бы читалось отпущение грехов всему этому грешному миру.
У избранника небес разделенные пробором золотистые волосы падали мягкими прядями, а коротко подстриженные сзади овалом, они напоминали светло-желтый блестящий плюш, который плавно сливался с теплым цветом кожи у висков и шеи.
В маленьком городке всегда сразу становится известным любое сколько‑нибудь значительное событие в гарнизоне.
Когда разнесся слух, что Властислав едет на фронт, все безмерно удивились. В лавках, в гостиницах, в каждой семье только и разговору было об этом. Странно, раньше словно никто и не думал, что ведь и он должен отправиться на войну, в пекло, каким представлялась война по рассказам первых раненых.
Подумайте только, люди, — да разве сможет этот прекрасный юноша, например, поджечь деревню? Или убить кого‑нибудь своей блестящей серебряной сабелькой?
— И что там делать такому мальчику? — вопрошала супруга начальника налогового управления.
Супруга директора городской школы, бывшая преподавательница, глядя в окно на Властислава, растроганно вспоминала приключения юного барабанщика из рассказа Де Амичиса, которому за геройское выполнение приказа ротмистр вручил в больнице высший орден.
Так или иначе, прекрасный юноша разминулся со своим предназначением. Он был создан стать милым пажом при дворе добродушного сказочного короля, моделью для фигуры ангела у алтаря кафедрального собора или для цветной олеографии, изображающей молодого Христа, беседующего с апостолами.
Город любил его искренне и пристрастно, как умеет любить только чувствительное, одинокое женское сердце. Его любили уже потому, что хотя он и был со многими знаком, но ни с кем — близок, и хотя охотно дарил свою улыбку каждому, все же держался в отдалении, недоступный и словно бы нереальный.
Кто бы мог сказать о нем, что и он умеет плутовским и настойчивым взглядом посмотреть прямо в глаза девушке на вечернем гулянье в городском парке?
Что заставлял млеть девиц у тихих окошек с фуксиями, когда вышагивал по улице, звеня шпорами, в сопровождении своего бульдога Ксеркса?
Смолкало пианино, замирал на полузвуке этюд. Девушки выглядывали из-за портьер. Обрывалась супружеская ссора, и трепещущая, вся в слезах женщина, увидев в окно красивого юношу, чувствовала себя еще более несчастной.
Останавливались швейные машины в портновских мастерских, водворялась тишина — и девицы мгновенно оказывались у окон.
Да, Властиславу самим богом было предназначено стать героем девичьих надежд и грез.
Заходя в лавку, он и продавщиц приводил в полное замешательство. Его голос, манеры казались необычными. Он обращался к ним вежливо, тихо, и никто не мог понять, почему это действует на них с такой неодолимой силой, Властислав, рыцарь Гложек, драгунский поручик, именуемый Золотцем, уезжал на войну.
Задолго до того, как он с драгунами подъехал на своем сером в яблоках коне к товарной платформе, перрон уже запрудила шумная толпа учениц двухклассной торговой школы, слушательниц воспитательских курсов, продавщиц и дам из общества.
Прибыла на проводы часто принимавшая у себя офицеров гарнизона владелица ткацкой фабрики, в новой шляпе со страусовыми перьями.
Пришла и горбатенькая фрейлейн Пивонка со своим пестрым летним зонтиком, который был памятен даже самым давним старожилам города.
В тот момент, когда поезд тронулся, Золотце весело махал всем фуражкой с воткнутым за околыш букетиком цветов.
Перрон превратился в скопление плачущих, громко восклицающих что‑то существ — покинутых, обреченных на вечную тоску.
Уезжал любимый ангелок.
Белые платочки порхали над толпой стаями бабочек.
Трубачи-драгуны надували щеки.
Поезд ускорял ход.
Вот уже промелькнули вагоны второго класса; затем перед взорами провожающих поплыли товарные вагоны с кавалерийскими лошадьми. Солдаты, высовываясь из вагона, кричали хриплыми голосами:
— Прощайте, прекрасные девы!
— Прощай, чешская земля!
Последний вагон был доверху загружен обозным имуществом, а на громыхающей товарной платформе подпрыгивал маленький драгун, словно клоун, который, пятясь, убегает с циркового манежа, и кричал во все горло:
— Хейль, хейль, хейль!
Властислав смотрел из окна на город, который железная дорога опоясывала полукругом, на город, где он оставил частицу своей жизни и где он — господи боже! — так часто смеялся.
Когда же исчез за холмом купол кафедрального собора, он откинулся на мягкие подушки и, вынув из рюкзака кисет, украшенный вышивкой, принялся за конфеты, обернутые в зеленую, синюю и желтую станиоль.
Скручивал блестящие бумажки в твердые комочки и кидал в окно.
Смеялся. Потирал руки. Почесывал за ухом.
Лег на лавку и дрыгал ногами.
Наконец утихомирился.
Вспомнил о матери.
Поглядите‑ка! Властислав со своими драгунами едет на войну!
Осень поставила для этого случая переливающиеся красками цветные декорации. Солнышко припекало, луга, деревни, города приветливо смотрели на пыхающую паром змею, а паровозик смеялся — ха-ха-ха, ха-ха-ха!
Переговаривались и смеялись драгуны.
Ржали и били копытами резвые, отдохнувшие кони.
* * *В Галиции, где‑то возле Луцка, поезд Властислава столкнулся с поездом, везущим раненых.
Ах, такой пустяк на фоне мировой войны!
Железнодорожные катастрофы в тылу не имеют отношения к военным действиям.
Велика беда — всего лишь десять вагонов разбито в щепки.
Из лошадей получилась кровавая груда костей, копыт и оскаленных морд.
Горели обломки задних вагонов.
Судьба, как и всегда, благоприятствовала Властиславу.
Он, слава богу, остался жив.
Только вот лавки в его купе столкнулись. Зажали ему ноги деревянными клещами. Разодрали левую лодыжку, порвали мышцы правой ноги. Чьи‑то взбесившиеся руки пробили дыру в крыше и острыми щепами-кинжалами изрезали его лицо.
Пила, образовавшаяся из листа покореженной жести, разрезала ему губы, задела ухо, отсекла челюсть, и далеко, в кучу железа и досок, отлетел мизинец левой руки с перстеньком, в середину которого был вделан бриллиант.
Дар влюбленного сердца.
* * *Опытные доктора зашили ему раны на лице. Прооперировали ноги.
Чинили его с успокоительной тщательностью, применяя все самые последние достижения хирургии.
Властислав изучил потолки многих военных госпиталей, альпийских санаториев и венских ортопедических институтов.
Рассматривая столько выбеленных потолков, он научился размышлять.
Это было ему весьма на пользу. Тем более что одновременно он познавал основы физиотерапии и благотворное действие гальванизации, фарадизации и рентгенолучей.
Он лечился холодными ваннами, воздухом горным, влажным и сухим, обертываниями и массажами.
Принимал точно отмеренные дозы бромистого калия, йодистого калия и веронала.
При помощи блоков поднимал, лежа в постели, тяжести. Крутил педали неподвижно закрепленного велосипеда — ежедневно, перед обходом, с половины девятого до девяти, — и так целый год, ни одной минутой меньше.
Он перенес много инспекций госпитального начальства, визитов генералов с орденами, важных чиновников и высшего духовенства.
Врачи с гордостью показывали его гостям.
Высокопоставленные изумлялись чудесам современной медицины.
Итак, наступил наконец тот великий день, когда врачи и сестры от всего сердца поздравили его, ибо он смог уже заменить один костыль палочкой.
Это был памятный день.
Напрасно думают, будто у физически неполноценного человека, вынужденного соблюдать предосторожности и различные ограничения, убогая жизнь. Совсем наоборот. Хоть и менее яркая, она богата столькими маленькими радостями и разнообразными удовольствиями, о которых человек с нормальным, автоматически двигающимся телом не имеет даже отдаленного представления. Многие люди, исторгнутые из суетливо копошащегося человеческого муравейника, вознаграждают себе эту утрату тем, что углубляются в созерцание собственной души и вкладывают в свои отношения с миром больше чувств, нежели в самые страстные молитвы.