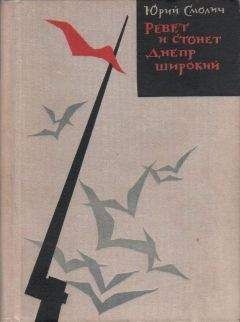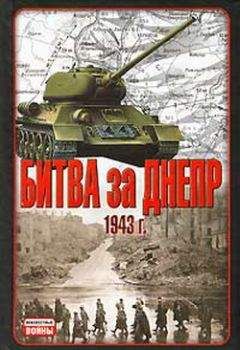Иван Сотников - Днепр могучий
— Сейчас, сейчас, как же без перевязки.
— В глазах темнеет, — скрипел зубами Самохин.
— А я вас еле нашел, товарищ лейтенант. Долго искал.
Перестрелка усилилась, и на высоте замелькали люди. Залегая после коротких перебежек, они отстреливались. Послышался гул моторов:
— Контратакуют, сволочи. Успеем ли?
— Успеем, товарищ лейтенант, обязательно успеем, — и сержант лег рядом с офицером. — Айда ко мне на спину!
— Ой, не донесешь.
— Айда! — настаивал Валей.
Самохин обхватил его за плечи и, опираясь на колено легко раненной ноги, перевалился на спину Шакирова. Тяжело дыша, сапер пополз по черному снегу, изредка останавливаясь, чтоб передохнуть и дать возможность отдышаться раненому. А тому часто было невмочь от нестерпимой боли, туманившей глаза и расслаблявшей руки. Время от времени раненый скрипел зубами и тяжко стонал. Тогда, снова останавливаясь, Валей твердил:
— Теперь скоро, очень скоро, товарищ лейтенант.
Немцы тем временем закрепились на гребне, а их танки стали охватывать поле справа. Задержись — и как раз угодишь в лапы противника.
— Брось меня, уходи один, все равно не успеем.
— Ну что вы говорите, товарищ лейтенант, — отмахнулся сержант и, обливаясь потом и задыхаясь, все полз и полз дальше.
— Стой, не могу… сил нет… — и руки Леона совсем ослабли.
Остановившись, Валей дал ему попить, подбодрил и готов был уже тронуться дальше, как увидел, за двумя танками поднялась цепь. До немцев метров триста. Затрещали автоматы, и над головами засвистели тысячи пуль.
— Вот беда, не успели… — и Леон вынул из кобуры пистолет. Валей залег с автоматом.
Но огонь из орудий заставил немецкие танки повернуть вспять. Немцы залегли под косоприцельным огнем пулеметов, а чуть погодя опять возобновили перебежки. «Нет, живым я им не дамся!» — повернулся Леон в сторону атакующих. Осмотревшись, он увидел убитого солдата из своего взвода. Молодой сибиряк лежал, раскинув руки и в одной из них стиснув автомат.
— Валей, принеси его мне, — указал Леон на оружие.
С автоматом в руках стало как-то веселее. В горячей перестрелке Самохин совсем забыл про боль. Не подпустим, не подойдут! Неожиданно усилился огонь наших орудий и минометов. Сотни разрывов смешали вражеские цепи. Из лесу выскочили бойкие «тридцатьчетверки». Обошлось.
— Дай попить, Валей.
Но Шакиров горестно покачал головой: фляга пробита.
— Ну и ладно, авось перетерпим, — успокоился Самохин. — Устал, дружище? — участливо спросил он чуть погодя, увидев на лице сержанта крупные капли пота.
— Не впервой, обойдется, — задорно отмахнулся Шакиров. — После войны отдохнем. Айда, взбирайтесь-ка опять на спину!
Поползли снова. Самохин страдал от боли и от сознания своей вины перед Шакировым, который из последних сил тащил сейчас его, Самохина, через это нескончаемое заснеженное, исхлестанное огнем и железом поле.
— Не могу больше, — выдохся Самохин, — остановись, Валей, сходи, пришли санитаров.
— Да теперь близко… Потерпите, товарищ лейтенант. Дотащу, увидите, дотащу.
Закусив губу, Самохин умолк.
У самой дороги они попали под залпы шестиствольных минометов. Сержант осторожно свалил раненого на снег и прикрыл его собой.
— Ну ты просто ошалел, Валей! — разозлился Леон, пытаясь стряхнуть с себя Шакирова. — Ляг рядом, говорю тебе.
Но тот молчал, не слушаясь. Мины высоко вздымали землю, и мелкие комья ее сыпались на спину Шакирова, а бесчисленные осколки со свистом проносились над его головой. Одна из мин разорвалась совсем близко, так что даже Леон почувствовал, как его обдало горячей волной. Однако не задело.
Закончился обстрел, и они поползли дальше.
— Теперь близко, очень близко, — ободрял Шакиров раненого, хоть сам задыхался и двигался все медленнее и медленнее.
— Ну постой же, постой, родной, постой, — упрашивал Леон Шакирова. — Я полежу, дождусь, пока придут санитары.
Упорствуя, Валей тащил и тащил офицера, пока не вынес под высокий дуб, неподалеку от медпункта. Бережно опустил на снег и, тяжело дыша, присел у комля на корточки. Лицо его побледнело и осунулось, крупные капли пота стекали со лба.
— Передохни, — как можно теплее сказал Самохин саперу. — Теперь близко, тут помогут.
Шакиров послушался, прилег у дерева. На его лице было то просветленное выражение, какое бывает у человека, сделавшего что-то хорошее.
Расстегнув крючок, сержант просунул под шинель руку и, прижав ладонь к сердцу, сразу ощутил теплую кровь. Веки отяжелели и смежились сами собой. Валей с усилием открыл глаза. За дальним холмом тихо догорал день. Солнце уже скрылось, а над горизонтом висело еще полыхавшее облако. Стихал и гул боя. Легкий ветерок на цыпочках прошелся мимо и, спугнув тревожное безмолвие, чуть слышно зашелестел над головой еще крепким желтым листом.
Сил говорить не было у обоих, и отдыхали молча. Сквозь ветви дуба Леон глядел на густо-синее, уже темнеющее по вечеру небо, отдаваясь сладостному полузабытью.
К сознанию его вернули чьи-то шаги. Леон встрепенулся и поднял голову. Через поле бежала девушка. Осунувшееся лицо Самохина сразу оживилось, глаза заискрились, и голос обрел какую-то силу и нежность одновременно:
— Таня! Танюша!
Девушка побежала еще быстрее и, запыхавшись, на мгновение приостановилась в трех шагах от Самохина.
— Видишь, и на старуху бывает проруха. Если бы не Шакиров, — кивнул он на сержанта, — конец бы мне.
Девушка охнула и рванулась было к офицеру, но тут же остановилась, не успев даже ответить на его слова: она увидела мертвенно побледневшее лицо Шакирова и порывисто склонилась над ним.
— Что с ним? Он умирает? — донесся до Леона ее испуганный голос.
— Нет, нет!.. — в ужасе вскрикнул Самохин и, превозмогая боль, привстал с места. — Он из-под огня меня вынес. Он живой!
Таня поспешно ощупала лицо, шею, плечи Валея, расстегнула ворот, с трудом отняла его руку, прижатую к груди, и Леон увидел ладонь и пальцы в сгустках уже потемневшей крови.
— Как же он нес тебя? — сдавленным душевной болью голосом спросила девушка.
— На спине тащил, я шагу сам не сделал, Танечка, и веришь, не видел… — Вдруг из груди Самохина вырвались какие-то странные, глухие, лающие звуки, а по щекам потекли, мешаясь с грязью, скупые мужские слезы.
3Санитарная машина шла разбитым проселком, и трясло ужасно. А Самохин не замечал ни тряски, ни своего одиночества, ни острой боли в забинтованной ноге.
Перед глазами как живой — Валей Шакиров. Какой человечище! Почему же Самохин его недолюбливал? Что ему не нравилось в нем? Может, его склонность побалагурить, отвести душу веселой шуткой? Его внимание к бойцам, когда порой не сохранялся командирский тон? Может, его какие-то промахи, без которых не бывает на фронте и у хороших людей? Нет, все это казалось теперь нормальным и естественным. Что же мешало ему, Леону Самохину, видеть это раньше? Разве постоянное недоверие к людям? Или ничем не объяснимое сомнение в их силах и возможностях? Ответа у Леона пока не было. Только сердце его все полнилось и полнилось новым, еще не изведанным чувством. Правда, Леон еще не понимал, что с ним происходит, еще не сознавал пробудившейся в нем веры в человека, веры, которой так долго было лишено его сердце. Ему не раз говорили об этом. Но слова, хоть и тревожили, все же скользили по сознанию, не задевая душу. Теперь же они нашли в ней отклик и как бы вспыхнули, разгораясь живым огнем, без которого нельзя по-настоящему жить, любить, ненавидеть, бороться, а главное — вести людей в бой, а иногда и посылать на смерть.
У Самохина вроде свалилась с сердца огромная тяжесть, и он сразу ощутил сильную боль в ноге, но, несмотря на это, ему стало легче и покойнее.
4У ключа сломалась бородка, и Сабир никак не мог открыть железный ящик с документами разведчиков. И хотя Сахнов принес ему целую связку ключей, замок не поддавался. «Как же быть теперь?» — досадовал парторг, перебирая ключи и сухо поглядывая на Сахнова, равнодушно взиравшего на его усилия. «Ты, голубчик, сам похож на такой же ящик: к тебе тоже не подберешь ключей».
Кажется, парень как парень. А вот поди ты! Сабиру вспомнилась вдруг дедова сабля, старая, кривая, еще с салаватовских времен. Сколько дед ни чистил ее, все темнеет и темнеет, нет блеску. А в делах была славных, и в руке удобна. Только вот сырости боялась. Так и Сахнов. Не тот, видать, сплав. С примесью. Но отступать от человека не хотелось. Говорят же башкиры, сварил кашу — масла не жалей.
Наконец один из ключей подошел все-таки, и Сабир вздохнул с облегчением. Достал списки, выбрал адреса погибших, чтобы написать родным, и сразу помрачнел.
Выложил томик Пушкина, отложил в сторону — не забыть возвратить Тане — и вдруг увидел засушенную веточку, сохранившуюся меж листов книги. Осторожно вынул и повертел в руках лиловатый бессмертник. Он всегда любил этот скромный цветок на тоненьком, как проволока, стебельке. Ими густо покрыты обочины башкирских дорог и каменистые бугры над Кара-Иделью. Цветет он с августа до глубокой осени, когда все уже выгорает и отцветает.