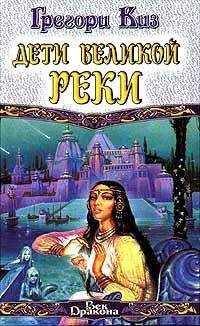Анатолий Занин - Белая лебеда
Среди трубачей и Леонид Подгорный. Он замечает меня, дружески подмигивает.
Провожая меня в клуб, мама покачала головой: «Жалко, времени нема, а то бы побачила на нашего артиста».
Я был на седьмом небе от радости, когда в пьесе Бориса Лавренева «Разлом» мне доверили роль морячка-статиста, а в «Грозе» Островского — бессловесного купчишки. Зато в «Цыганах» Пушкина я читал эпилог и пролог. Загримировали под знаменитого поэта за курчавые волосы и нос горбинкой. Высокий блестящий цилиндр мы взяли напрокат в гортеатре, а накидку мама сшила из байкового одеяла, перекрашенного в черный цвет.
С опущенной головой и цилиндром в руках выхожу на сцену и с печалью в голосе говорю:
Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют…
Но чем лукавый не шутит? Я начал писать стихи. Они будто рвали плотину молчания и сами просились на бумагу, которой недоставало. И тогда я исписывал обложки старых тетрадей и чистые поля газет.
Но как ни странно, стихи эти не стали откровением. Я изливал в них лишнее, ненужное…
Залетный поэт выявлял таланты, заставлял с ходу сочинять стихи. Он поразил нас своей поэмой, которая начиналась так: «Человек приходит из темноты и уходит в темноту…» и потом: «Каждый по-своему уходит из мира сего…» Он сказал, что пишет преимущественно белыми стихами, и окончательно доконал нас.
На занятиях литературного кружка я пялился на поэта, восхищался им. У него были роскошные каштановые волосы, раздвоенный подбородок, всегда синеватый от проступавшей щетины, и пронзительный, не терпящий возражения взгляд. Поэт не имел пристанища в городе, и мы поочередно водили его к себе ночевать. Я угощал его вареной кукурузой, уступал койку, а сам мучился на подсолнечных семечках, толстым слоем насыпанных на земляном полу для просушки.
Вообще-то поэт у нас блаженствовал. Из случайных оговорок мы поняли, что он бежал от критиков, от семьи, уехал куда глаза глядят и очутился в нашем городе, в замызганном и обшарпанном клубе, который казался нам дворцом из детских сказок.
Однажды для очередного опуса он подбросил нам самое простенькое название «Сучок» и предложил написать рассказ. Заглянул к нам и Дима, который рылся в книгах библиотеки и, примостившись на подоконнике, написал самый интересный рассказ. Испанские патриоты, заключенные в тюрьму, заканчивая прогулку по двору, затыкали сучком отверстие в воротах, через которое, проходя мимо, хоть на миг вглядывались в красные и выжженные, но такие милые горы…
Федор заткнул бутылку сучком, чтобы не выплеснуть драгоценный напиток. Леонид порвал штаны о сучок, когда убегал из чужого сада, а я такое нагородил, что даже не хотел показывать рассказ Дорофею Иннокентьевичу.
…В темноте заброшенного сарая, в который я пробрался с первыми петухами (это было непременное условие в споре), вдруг засветился сучок. Я выдернул его и припал к отверстию. Что я увидел! Что увидел! В меня будто вперилось неземное око, и в нем струился и переливался странный и чудный мир… Непонятно каким образом, но я вошел в него, и там было все: твоя любовь и желания, Испания в огне и ветер странствий, грохотание яростной грозы и танки, вползающие на синие терриконы, и там еще был Новый Город с широкими улицами, дворцами, парками и космодромом, на который прилетали корабли из будущего…
Дорофей Иннокентьевич прочитал наши рассказы и задумчиво пустил дым под потолок. Легкая грусть промелькнула в его серых глазах.
— Молодые… Эх! — сгреб руками волосы, падающие на лоб, и с завистью проговорил: — Где мои восемнадцать? Не так бы все надо… А кто знает, как надо? То-то… Все начинают с ошибок… А жизнь летит! Вот ты, Дима, что хочешь свершить в этом мире?
— Строить, строить и строить! — твердо сказал Дима — Построить бы такое!… Чтобы на века и тысячелетия! Как Парфенон! Но сначала буду строить Новый Город на месте старых растащиловок, цыгановок и собачевок… Чтоб у каждого была своя крыша получше, чем сейчас…
— Пишите, ребятки, пишите! Сомневайтесь и жертвуйте! Ищите и добивайтесь! Но знайте: нужно спешить и спешить! А ты, Коля, обязательно пиши. Приказываю тебе писать! Божий дар не каждому дается…
Лучше бы он этого не говорил!
Он исчез неожиданно, как и появился, а я потерял покой. Вместо того, чтобы бежать в клуб на танцы или сражаться с парнями соседней шахты за право проводить их девушку, я без передышки строчил повесть из школьной жизни, метался по комнатушке, стискивал руками голову, словно пытался выдавить из нее что-то необыкновенное, валился на кровать, выкрикивая тирады совершенными, как мне казалось, даже гениальными белыми стихами, ругался с Димой и взывал к Ине, которая, конечно же, была непременной героиней всех моих задумок. Но слова ложились на бумагу жалкие, и тогда я отбрасывал перо и лихорадочно думал, переживал за моих героев, созданных пылким воображением. Из-за своих неудач на творческой стезе я чувствовал себя несчастным, мало того, неполноценным!
На Дорофея Иннокентьевича не обижался, даже начал забывать его. Потом стало казаться, что его и вовсе не существовало, а просто на меня нахлынула дурь молодости, просто я не знал еще, куда девать свою силушку…
Писателя из меня не получилось, но зато я полюбил книги, всю жизнь их собирал, носил и в солдатском вещмешке, вез в чемодане на Урал, покупал книги на последние рубли от стипендии, забивал ими тесную квартиру..
И еще интересовался теми, кто пишет эти книги…
А в школе я учился неважно. Любил историю, географию и литературу, а математику и немецкий ненавидел.
Литературу нам преподавал Павел Борисович, наш же классный руководитель, маленький, в длинном коричневом пиджаке и сапогах, всегда чем-то расстроенный и чем-то недовольный.
Как сейчас вижу его чистое, белое и виноватое лицо.
Он чувствовал себя виноватым, когда мы «выкидывали» номера. Но мы любили своего Павла Борисовича.
Павел Борисович был заядлым рыбаком и следопытом, в летние каникулы устраивал походы на Дон, придумывал военные игры, а мы под шумок опустошали казачьи сады, на нас напускали собак, стреляли в нас из ружей солью. Отплясывая по-дикарски у костра, мы с хохотом рассказывали о своих приключениях.
Слухи о наших играх в казачьих станицах дошли до гороно, куда вызвали Павла Борисовича. Мы приутихли, чинно и мирно жгли костры на берегу Дона и придумывали разные разности.
Дима, например, заявил, что может хоть кого усыпить. Он становился в кругу, высоко над головой поднимал блестящий подшипниковый шарик и страстным шепотом отчетливо произносил: «Спать, спать, спать».
Первой засыпала Ина, Дима считал ее симулянткой и к костру вытаскивал Таню, которая, как мне казалось, только делала вид, что засыпала, а попросту хотела досадить Ине: вот, мол, смотри, какое мне оказывает внимание Димочка!
Не желая отставать от Димы, однажды я вышел в круг и предложил задать тему для рассказа, который собирался тут же сочинить.
Я на минуту замер со скрещенными руками на груди и начал импровизировать. Сначала боялся сбиться и сбежать из круга, но неожиданно заговорил складно, голос окреп, и я почувствовал, что будто какая-то пружина начала разворачиваться внутри, складные мысли опережали язык, который теперь без запинки набирал скорость.
На немецком с трудом высиживал до звонка. Закрыв глаза, нашептывал десять обязательных ежедневных слов; машинально повторял правила склонения глаголов; списывал у кого-нибудь переводы куценьких текстов, приводимых в учебнике, и болезненно переносил ехидные, как мне казалось, замечания «немки», прозванной нами Зубскотиной.
Перед тем, как поставить в дневнике «неуд», она шептала: «Толоконный лоб!» или «глуп как пробка» и тому подобное.
Только один Федор Кудрявый бойко отвечал Зубскотине, даже переругивался с ней по-немецки, но она не обижалась и всегда ставила ему «отлично». Немка была из «бывших». Ее отец, генерал царской армии, погиб в гражданскую, а брат ее бежал за границу.
Кто-то из девчонок подсмотрел, что, когда она ела бутерброды в учительской во время большой переменки, то выпучивала глаза и клацала сильно выступавшими вперед зубами, за что ей дали прозвище, перекликавшееся с глагольной формой субстантив, за незнание которой она всем подряд ставила «неуды».
Генка Савченко тайком принес в класс фотоаппарат, незаметно для многих из нас снял «немку», увеличил фотографию и перед началом урока повесил ее на стене повыше доски.
Едва «немка» вошла в класс, все встали, и группа парней во главе с Генкой Савченко, сложив руки у подбородков и подняв глаза к фотографии, затянули нараспев: «О, святая Елизавета, не помяни нас лихо, не ставь нам «неуды», пожалей бедненьких…»