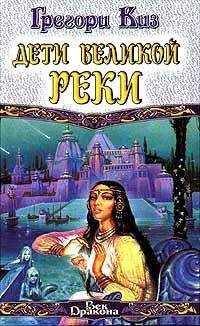Анатолий Занин - Белая лебеда
Во дворе, в тени широкого каменного сарая, похожего на старую перевернутую баржу, в каких на Дону возят пшеницу и скот, я увидел Ину, спящую в густой лебеде на одеяле из цветных лоскутков. Она лежала на боку и, откинув руки, чему-то улыбалась; ее маленькие припухлые губы чуть раздвинулись, открыв блестящие зубы.
Затаив дыхание, я растерянно смотрел на ее подрагивающие веки, на шевелящиеся пальцы рук, медленно опустился на колени и приник к ее губам…
О, сколько я ждал этого случая!..
Я догадывался, что Дима безжалостно мучил ее своей идеализированной любовью, и она часто бросалась ко мне, ища защиты от назойливых мальчишек; по дороге в школу я переносил ее через бурлящий в дождь ручей.
Веки у нее приподнялись, бессвязно бормоча, она перевернулась на спину.
Этот краденый поцелуй остался безответным и всегда потом вспоминался не без горечи.
Я поднялся и рукой задел ее плечо. Ина проснулась и быстро села, натянула подол платья на колени. Задумчиво теребила кончик толстой косы.
— Откуда ты взялся?
— Синица привела…
— А мне такой сон привиделся…
— Будто тебя жених поцеловал?
— Будто я раскусила кислицу! — рассмеялась она. — Жених, а ну догони.
Шустрая. Так припустила, что гнался за ней до самой двери. У нее собирались обедать, и меня пригласили.
У Ины симпатичная и еще совсем молодая мама, но мне не нравилась ее суетливая крикливость. Зато папа — привлекательнейшая личность.
Потапыч, как с налетом юмора в голосе называла мужа Полина Викторовна, по профессии запальщик. Потому и лицо у него казалось синеватым. Не раз попадал под взрывную волну, которая с силой бросала в лицо угольную пыль. Отец говорил, что Потапыча очень уважали шахтеры, а начальство ценило, как опытного запальщика. Никогда Потапыч не оставлял в шпуре шахтерскую гибель — неразорвавшийся динамитный патрон. На такую аккуратную работу и нервы расходовались сверх нормы.
А сегодня ему светит солнце, и дочка улыбается, делится своими школьными заботами, толкует о представлении, какое вместе с Кольчей Кондыревым хочет показать поселковым жителям. А если его Полиночка чем-то недовольна, он постарается все уладить, ведь ласковости и добродушия у него на десятерых. Он налегает на украинский борщ, в который столько бросил горького перца, что он продирает горло похлеще табака самосада…
— Инуська, подай своему кавалеру компот, — с легкой усмешкой сказала Полина Викторовна.
— Ина… Инуська… И кто же это такое имя придумал?
— Кто же еще! — встрепенулась Полина Викторовна. — Наш Потапыч коленце выкинул. Ахнуть не успели… Я мечтала Галей назвать. Галя, Галочка… И Потапыч вроде соглашался, а пошел в загс и переиначил. Приходит домой и смеется: «Теперь у нас праздник всегда дома. Дочка у нас Октябрина…»
В те годы родилась мода на новые имена. В поселке появились Кимы, Владилены, Интернационалы, Радии, Мюды, Пятилетки…
С церквей сбрасывали колокола.
Ввели рабочие пятидневки. Работали четыре дня и на пятый отдыхали.
В школе все наизусть учили «Левый марш» Маяковского и ничего не знали о Сергее Есенине, хотя за углами всякая шантрапа нашептывала его искаженные стихи из цикла «Русь кабацкая».
Ругали Шаляпина за то, что он сбежал из России в трудные для нее годы…
Отвергали все иностранное, почти никаких контактов с чуждым и жестоким миром. По крайней мере, мало кто из знакомых ездил за границу, а иностранцев совсем не видели…
И праздники появились новые. 1-го сентября — Международный юношеский день. 18-го марта — День Парижской коммуны.
Я с восторгом писал лозунги на кумачовых полотнищах: «Да здравствует 19 лет Октября!», «Слава 20-й годовщине Советской власти!»
А как мы гордились своими успехами! Перелетом Валерия Чкалова на самолете «АНТ-25» через Северный полюс в Америку! Пуском Днепрогэса, Уралмаша! Спасением челюскинцев.
Алексей Стаханов, забойщик шахты «Центральная-Ирмино», установил невиданный рекорд по добыче угля!
Сколько лет прошло, но я никогда не забуду ту демонстрацию солидарности с испанским народом.
Мы тогда были первыми и единственными. И вот Испания с нами! Нет-нет да и услышишь, что у того или у другого брат или отец уехали далеко-далеко…
Мы пошли в город после занятий в школе. Торжественно прошествовали мимо памятника Ленину, мимо трибуны, на которой среди городского начальства и красных партизан стоял и мой отец. Он был в белой рубахе с алеющим на груди орденом Красного Знамени, в белой фуражке. Когда мимо трибуны проходили шахтеры с «Новой» и мы, школьники, отец пробился к барьеру и хриплым голосом прокричал:
— Да здравствует Испанская революция! Фашисты не пройдут! Мы поможем испанскому народу! Вопрос исчерпан!
Все увидели и узнали его и еще раз закричали «ура!» и захлопали. Свернули с площади и пошли вниз по Советской, застроенной старинными кирпичными домами, перебрались по мосту через Каменку, брели напрямую по Красной балке, перепрыгивали с уступа на уступ, по очереди несли знамя, развевали им, и красное полотнище, как птица, взмывало над нами. А мы пели, пели…
— Не знаю, как оно того… получится, — смущенно признался Потапыч, когда я попросил помочь оборудовать сарай для представления. — Я ить того… Породу динамитом рву…
Я предложил Инке осмотреть сарай и по дороге сказал, что все сделает мой батя, а мы ему поможем.
В сарае было полутемно и душно. Мы с трудом пробирались среди досок, старой мебели и разного тряпья. Она споткнулась, наскочила на меня и тут же со смешком отстранилась.
— Вот здесь будет сцена, — сказал я. — Скамейки из дому принесем.
— Дима читал пьесу?
— А при чем здесь Дима? — насупился я, схватил ее за руки и притянул к себе.
— Ну-ну… — засмеялась она и выскользнула из рук. — Кольча, понимаешь… Ты мой верный друг… Когда мне трудно, вспоминаю тебя… Потому, что надеюсь на тебя… И на Федю тоже… И на Леню…
— Замолчи! — вскричал я. — Хочешь, я подожгу этот сарай? Такой факел в твою честь! А вот Димка не додумается! Ни в жизнь!
Я выхватил коробок и чиркнул спичкой.
— Сумасшедший! — Хлопнув руками, она погасила спичку и побежала к выходу. — Я и не знала, что ты такой…
Два дня и две ночи — не больше и не меньше — мы с Федором сочиняли пьесу о советском летчике. Сбитый фашистами, он на парашюте опускается неподалеку от горной испанской деревушки и случайно встречает молодую и, конечно, красивую испанку. Она тут же влюбляется в летчика и прячет его в своем доме.
В нашем клубе на «Новой» перед киносеансом показывали хронику. И мы уже видели, как самолеты с крестами на крыльях пикировали на мадридские улицы, как в страхе бежали женщины и дети. В Ленинграде толпы людей встречали пароход с испанскими детьми. Их тут же разбирали русские милосердные женщины.
Мама достала из черного сундука Зинины ботиночки и сказала:
— Внучатам оставила… Да чего уж… Пусть испанята доносють…
Федя, Леня и я сидели у нас на скамье возле клумбы с ночными фиалками и предварительно распределяли роли. Зина с подружкой Ниной бесшумно подкрадывались к Лене с крапивой в руках, чтобы наказать его за проделки с мышью, с которой он прошлый раз гонялся за ними.
— А кто будет летчиком? — спросил Леня, кося глазами на приближающихся девчонок.
— Я, конечно, — как бы между прочим сообщил Федя — автор белых стихов в пьесе. Неожиданно Федя прямо-таки зашелся в долгом кашле. Давно это у него тянулось. Изредка он ездил на бойню (там его знакомый бойцом работал), пил бычью кровь, а вечером самогонку и брагу. И курить не бросал. Кашлял и курил, кашлял и пил.
— Хо! Летчик-косоручка! Дохлятина! — ехидно воскликнул Леня.
Грузный, с сонливым видом Леня однако проворно обернулся и поймал Нину за руку, а Зина, визжа, со всех ног бросилась за сарай. Красное платьице Нины сбилось, открыв белую незагоревшую кожу на груди. Непонятную зависть и неловкость вызвали у меня эти контрастные полосы, резко подчеркивающие загар длинной, уже по-девичьи округлившейся шейки.
Как вытянулась Нинка! Плечи раздались, груди выпирают из тесного платья… Одергивая подол, Нина бросилась за сарай к Зине.
Хлопнула калитка, и мы, как по команде, повернули головы. По дорожке шли Ина и Дима.
— Компривет! — весело отсалютовал Дима рукой, сжатой в кулак. — А где возьмете доски на сцену? Тоже мне друзья-заговорщики. Мой батя никак не соберется веранду сколотить и какой год доски в сарае лежат. Где пьеса?
Он выдернул тетрадь из рук Федора и стал листать ее, бегло просматривая и одновременно расхаживая между нами. Умел он заставить обратить на себя внимание. Главное, у нас не было сил избавиться от его команд. И я уже боялся за свои прозаические реплики в пьесе и белые стихи Федора, короче — боялся критики Дмитрия, но если бы он похвалил…