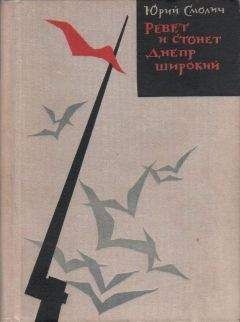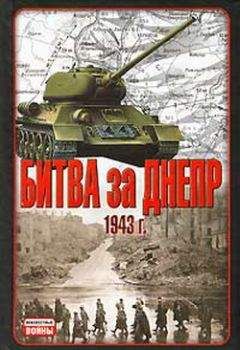Иван Сотников - Днепр могучий
— А до смерти четыре шага… — тихо подтянул Юров.
— Не так близко, Марк, — возразил ему Жаров.
— И не так далеко, товарищ капитан, — упорствовал Юров, хмуря лицо, на котором прежде всего замечаешь удивительно большие черные глаза.
Любит поспорить начштаба, ох любит! Впрочем, кто в двадцать два года хоть немного не склонен к этому?
На нарах белокурый сержант перебирал лады баяна.
— А ну-ка, спой, Пашин, — подбодрил его комбат, не оборачиваясь.
Набирая скорость, эшелон несся мимо тополевой рощи. На ее опушке еще свежая братская могила. С горечью и щемящей грустью смотришь на такие могилы, увенчанные красной деревянной пирамидкой со звездой — бесхитростным памятником боевой славы. И едва успела эта картина мелькнуть за окнами вагона, как сержант, будто в ответ на виденное, запел песню:
Где тополи гнутся и стонут от боли,
склоненные ветром тугим,
твой сын, Украина, лежит среди поля
под небом высоким твоим.
И ты ему скажешь, родимая: — Сыну…
И склонишься нежно над ним,
моя Украина,
краса Украина,
пожарищ развеянных дым!
Радистка Оля с изумлением взглянула на белокурого сержанта. «Вот ты какой, а я и не знала!» — как бы говорил ее взгляд. Она недавно в полку и впервые слушала Пашина.
А мимо все плыли и плыли картины бедствий. Видно, вволю погулял здесь злой огонь войны, и всюду плоды многолетнего труда превращены в битый кирпич, обугленные столбы, в скелеты вагонов и паровозов.
Скорбит наше сердце за горе, за раны,
за кровь дорогую твою.
Рванувшись на запад под стягом багряным,
к возмездью зову я в бою.
Все ближе священной расплаты година!
Врага побеждая в борьбе,
моя Украина,
краса Украина,
идем мы навстречу тебе!
Дорога пересекала железнодорожное полотно. Может, совсем недавно вдоль грейдера тянулось богатое село, теперь же одни черные обгорелые тополи. От белых украинских хат даже печных труб не осталось — один пепел и прах.
С горечью и болью всматриваешься в эти картины бедствий, и сердце закипает от гнева. А слова песни и тревожат обжигающим напоминанием, и зовут к подвигу, и звучат как клятва:
Мы верили, ворог тебя не поборет, —
и он не сумел побороть!
Мы ворогу горем заплатим за горе
и кровью за кровь и за плоть.
Ты будешь под блещущим солнцем орлиным
и жить и опять расцветать,
моя Украина,
краса Украина
Святая любимая мать!
Песня, хорошая песня! Кому она не растревожит душу и кто не отзовется на ее влекущий голос! У Оли повлажнели глаза. Марк не сводил взгляда со своего любимца Пашина. У Андрея жарче застучало сердце. Когда же умолк Пашин, никто не шевельнулся. Лишь Щербинин, дотоле молча стоявший у стены, свесив на грудь седую голову, медленно поднял ее и тихо сказал:
— Сильная песня!..
День клонился к вечеру, и незаметно подкралась темная ночь. Две свечи тускло освещали лица офицеров. Спать никому не хотелось. Пашин ушел к своим разведчикам, и все невольно заговорили об отважном сержанте. В полк он возвратился из госпиталя совсем недавно. А в дни битвы на Волге служил в роте Юрова и слыл отличным снайпером.
— Вот стрелял! — вспоминая те дни, рассказывал Марк. — Ни пули мимо цели. В каких только переплетах не бывал, но оставался невредимым. И все-таки один раз не повезло.
— Ой, как же это? — даже привстал Зубец, присланный из роты связным.
— Осколком зацепило, — пояснил Юров. — Завелся и у немцев снайпер. Тоже стрелял здорово. Не то что пройти, головы поднять не дает. Лупит и лупит, а откуда — узнай поди. Всей ротой следим и не видим. Ну, Пашин и выполз вперед. Засел в подбитый танк, что на ничейной полосе стоял, затаился. День проходит, другой. Рассказывал, занемел весь, а обнаружить никак не может.
— Нашел? — не удержался кто-то.
— Нашел. Немецкий снайпер, оказалось, бил из развалин дома.
— И снял? — все не терпелось Зубцу, которому вдруг захотелось сейчас же совершить что-нибудь необыкновенное, чтобы и о нем вот так же рассказывали.
— В тот же день снял. Немцы такой ералаш подняли, не знаем, как он выбрался из подпаленного танка. Ну, осколком и зацепило.
За разговором незаметно догорели вторые свечи. Самохину тоже захотелось рассказать что-нибудь сногсшибательное. И он не поскупился на краски.
Пробравшись в немецкий тыл, трое разведчиков уничтожают взвод, потом чуть не роту, затем орудия, бронемашины, и трудно сказать, что бы они еще уничтожили за сутки, только Самохина вдруг прервал Щербинин.
— Э, да ты, дружище, мне сибирского охотника напомнил, — начал майор, весело щуря глаза.
— Какого охотника? — насторожился Самохин.
— Пришел раз охотничек из тайги и рассказывает: «Иду, значит, тайгой, откуда ни возьмись — белка. Я бах — и в сумку! Дальше — заяц на снегу. Бах — и тоже в сумку! Потом таким же манером лиса. Ну, уж кому повезет в тайге так повезет. Только отошел — волк! Я еще бах — и в сумку! А тут сам медведь. Ну, я бах, бах и… в сумку!» — «Стой, стой, брат! — удивляются тому охотнику. — Какая же это сумка у тебя?» — «Как какая? — будто не понимает охотник. — Да самая что ни на есть обыкновенная, охотничья, с патронами. Увижу зверя — бах! — и опять в сумку… за патроном».
Раздался взрыв хохота, и Щербинин, довольный эффектом, стал неторопливо свертывать папироску.
— Однако спать, хлопцы! — заключил майор. — Отдохнем, пока можно.
3Наконец, и Нежин. Короткая стоянка у главной платформы. Черное безмолвное здание вокзала. Необыкновенно тихо и пусто вокруг. Ни света, ни людей. Отправление без гудка. И опять мерный перестук колес да посвист ветра за окнами вагонов и теплушек.
Медленно, будто нехотя наступило осеннее утро. В воздухе кружат советские истребители, и немцам не прорваться к стальной артерии курско-киевской магистрали, питающей горячее сердце фронта. Вокруг величественные сосны: это с севера вдоль Днепра сбегает сюда из-за Десны левобережное полесье. Чем дальше вперед, тем строже, сдержаннее становятся люди: впереди бои, испытания, и неведомо, как еще сложится судьба каждого.
День уже клонился к вечеру, когда прифронтовая тишина вдруг раскололась тысячами зенитных выстрелов и наполнилась гулом самолетов. По эшелону прокатился сигнал воздушной тревоги. Тяжко охнув, вздрогнула земля. Затем еще и еще. В небе сплошной гул, перекатывающийся, как гром. Пронеслись первые самолеты, и вверху заискрились красноватые скользящие вниз точки.
— Бомбы! — сорвался чей-то голос.
Нет, не бомбы. Разгораясь, точки разрослись в огненные шары. Это осветительные ракеты мощностью в несколько тысяч свечей, на парашютах. От них светло как днем.
Завывая, пикировали бомбардировщики, зловеще шипели и искрились немецкие зажигательные бомбы. Бойцы лопатами отбрасывали их подальше от состава.
Приближаясь к платформам, Андрей заметил, что при появлении самолета пулеметчики бьют почему-то в угон.
«От такого огня мало проку, — подумал Жаров. — Даже с психологической стороны он не выгоден. Летчик не видит трассы и действует более уверенно».
— Не с хвоста, с головы, с головы опережай! — горячился он, поясняя суть дела. — Да не так, постой… — И, вскочив на площадку, Жаров взялся за рукоятки пулемета. Секунда-другая, и немец метнулся в сторону.
— Ага, не выдержал! — обрадовался комбат.
Приближался другой самолет.
— Берись! — скомандовал Жаров, передавая рукоятки Зубцу. — Бей, как показывал.
И снова огненные струи пуль скрестились перед носом фашистского хищника.
— Сбили, сбили! Готов! — закричали рядом.
Немецкий самолет падал, оставляя за собой огненно-дымный след. Затем яркая вспышка, взрыв и столб огня над лесом…
Воздушная атака прекратилась так же внезапно, как и началась. Упали на землю и потонули в ночной тьме лучи прожекторов. Стихли гул и грохот, наступила звенящая тишина.
Эшелон почти не пострадал. Лишь стены нескольких вагонов побиты осколками и двое солдат легко ранены, а у одного ожог рук от зажигательной бомбы. Всюду возбужденные голоса.
— Подбегаю, а она, гадюка, шипит, искрами плюется, — горячась, рассказывал молодой зенитчик. — У самых колес грохнулась. Я штыком в кювет ее. Потом схватил каску и песком засыпал.
— Я, значит, строчу, — поглаживая корпус пулемета, говорит Зубец, — а бомба как бахнет рядом, и осколки — вжи-вжи — прямо над головой.
— Может, показалось?
— Показалось? Вон, — подтолкнул он скептика к вагону, — вон они, осколочки, видишь, стены побиты.