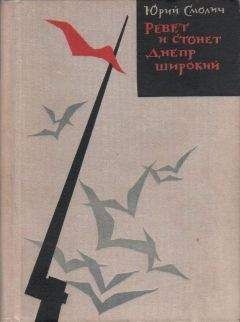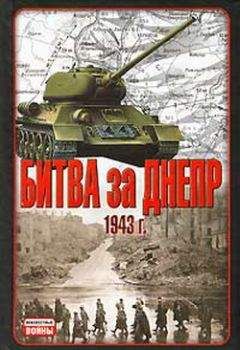Иван Сотников - Днепр могучий
От взрывов немецких снарядов подрагивали нары и пламя каганца на грубо сколоченном столе то ярко вспыхивало, то притухало. В тиши блиндажа посапывали во сне бойцы, а Таня не могла уснуть. Закинув руки за голову, она перебирала в памяти события недавних дней.
Да, самое важное случилось на курской земле. Догоняя наступающих, полковой обоз тащился узкой лесной дорогой. Кто бы мог подумать, что тут можно нарваться на засаду! «Танки, немцы!» — вдруг раздался тревожный вскрик. Точно, танки! Наскочили они с хвоста колонны, смяли одну повозку, опрокинули другую. Не помня себя, Таня спрыгнула с передка. В руках у нее оказались две противотанковые гранаты. Теперь уже не вспомнить, как она успела их прихватить. Кинулась было в кусты, но опомнилась. Оказывается, всего две «пантеры». Одна из них нагнала санитарную повозку, с ходу ударила лобовой броней, и Таня даже зажмурилась: так страшно еще никогда не было. Открыла глаза и, выбежав из-за куста, с маху бросила гранату, а упав, всем телом ощутила, как вздрогнула земля. Поднялась — и вторую гранату под гусеницы машины. Снова пламя и грохот… Таню обнимали, восхищались ее находчивостью и отвагой: «Конец бы обозу! Вот молодчина!» А у Тани уже подкашивались ноги, а потом вдруг потемнело в глазах, и она упала на землю, будто подрубленное деревцо.
Таня беспокойно повернулась с боку на бок, тяжко, со всхлипом вздохнула.
— Ты чего не спишь, кроха-недотрога? — заботливо окликнул ее бронебойщик Голев. — Спи, девка, скора на переправу.
— Просто горю вся, Тарас Григорьевич, сама не знаю, что со мной.
Чиркнула спичка и, вспыхнув, на мгновение осветила немолодое, по-отцовски ласковое лицо с черными усами.
— Спи, — затихая, уже сонным голосом повторил бронебойщик.
«Легко сказать: спи! — затаившись, думала Таня. — Какой уж тут сон, когда в памяти встает такое…»
С Леоном ее познакомил Яков. Вскоре Таня поняла, что нравится обоим — и Якову, и Леону. И Тане они оба нравились, но сердце в конце концов выбирает одного, и им оказался Леон. Таня полюбила. Какое это было чувство! Будто крылья выросли и подняли ее над миром, и в душе была песня, и хотелось сделать что-то большое и прекрасное. Разве могла Таня подумать, что тот, кого она любила, ее Леон, нанесет ей такой страшный удар?
…Раненую Таню привезли в полк. Наскоро перевязали и на носилках понесли через рощу к машинам, чтобы отправить в медсанбат. Ранение оказалось не из тяжелых. Таня не очень страдала от боли. Ее больше огорчало отсутствие Леона. Даже проститься не удалось. Конечно же, он был занят и потому не пришел.
— Вот черти, нашли место любовь крутить, — громко крикнул один из санитаров кому-то в роще.
«Бои, смерть, любовь — все рядом», — горько усмехнулась про себя Таня, втайне немножко завидуя тем, кто был в роще.
— Простите, товарищ лейтенант, — смутившись, приостановился санитар. — Думал, солдат, а оказывается…
Офицер усмехнулся, поглядел вслед убегавшей девушке.
— Кого несете? — вроде бы между прочим поинтересовался он.
— Санинструктора, кроху-недотрогу нашу.
— Таню? — ахнул Самохин, и все увидели, как лицо у него враз залила мутноватая бледность.
А Таня лежала с окаменелым лицом, и глаза ее ничего не видели, будто свет померк перед ними. И так продолжалось долго.
В госпитале для Тани произошло событие огромной важности: пришло известие о присвоении ей звания Героя Советского Союза. Таню поздравил в телеграмме сам командующий фронтом Ватутин. Посыпались письма от боевых друзей. Прислал письмо и Леон. Но о том ни слова. Боится? Или думает, что Таня ничего не поняла?
Теперь вот вновь предстоит встретиться. Как-то это произойдет? Какие слова скажут они друг другу?
4Коммунистов и комсомольцев Березин собрал в глубоком котловане. Замполита слушали стоя, тесно прижавшись друг к другу. Сыпал мелкий холодный дождик, но люди будто не замечали его. Нет, Березин не говорил красивых слов, но за кажущейся обыденностью его речи вставало и величие Днепра, и размах битвы за него, и глубина ответственности, которая ложилась на плечи каждого.
Для Сабира Азатова многое слилось в этом слове — Днепр, и давно уже близки его сердцу воды и берега великой реки. Тут он строил гидростанцию — знаменитый Днепрогэс. Тут он встретил свою Ганку и узнал счастье любви. Отсюда он ушел в институт и стал историком. А разве не он, Сабир Азатов, завтра примет бой на этих вот берегах, и, кто знает, может быть, ему придется впоследствии писать историю этой великой битвы.
Где-то там, за Днепром, его Ганка и сын. Азатов вспомнил о них, и боль обожгла сердце. Как они там, родные? Живы ли? И лютая ненависть к врагу закипела в груди Сабира. Нет, не дрогнет в бою его рука и не будет от него пощады фашистам.
После своего выступления Березин попросил высказаться коммунистов.
— Слов нет, — рассудительно говорил бронебойщик Голев, — бои впереди суровые. А всякий бой, как и работа, лучше спорится, коль сердце солдата на месте, я надо, чтоб лучше он знал, как там в тылу и на фронте. Рассказать ему, растолковать и повеселить человека нужно. Тверже душой станет. Обо всем должна быть думка у коммунистов.
— Может, скажешь, музыку ему иль там домино, шашки, — кольнул старого солдата Соколов. — Тут, брат, Днепр, бой впереди!
— К чему тут смешки, — вспыхнул Голев. — Всему свое место и мера. Человек на фронте не день живет и не месяц даже, годами воюет. А раз так — ему и отдых нужен. А отдыхать — это не только спать да посвистывать в две ноздри.
Азатов посочувствовал уральскому сталевару и, протиснувшись к центру, решил поддержать бронебойщика.
Заговорил Сабир просто и негромко, но слова его были по-своему проникновенны, и Зубца тронул в них тот самый огонек, что будит мысль, согревает сердце и зовет к действию. Загорелое лицо парторга дышало возбуждением, и он проводил одну мысль — слово коммуниста должно служить делу, а дело — долгу.
— Раз коммунист, — заканчивал Сабир, — значит, лучший солдат и лучший командир. Раз коммунист, — значит, лучший организатор и вожак. Раз большевик, — значит, пример всем!
Когда расходились с собрания, небо по горизонту зажглось огнями зенитных разрывов, издалека доносился глухой орудийный гул. И, как бы по-новому ощутив грозное дыхание фронта, коммунисты пошли в свои подразделения.
НА ТОМ БЕРЕГУ
Пересекая поверженную Польшу, черный поезд всю ночь мчался к фронту. В бронированном салон-вагоне фюрера царил полумрак. Утонув в глубоком кресле и уронив на колени коричневый томик Шпенглера, Гитлер вслушивался в монотонный перестук колес. Кто знает, не сама ли смерть отсчитывает ему последние минуты. Нет, мало, мало уничтожал он этих неистовых фанатиков и дикарей! Одно воспоминание о партизанах повергло его в мрачное состояние, и, чтобы избавиться от него, он порывисто встал с кресла. Забытый Шпенглер свалился под ноги. Гитлер с досадой пнул книгу, зашелестевшую растрепанными страницами, и, выключив свет, прошел к окну. Приподняв жалюзи, приник к стеклу разгоряченным лбом и, чтобы привыкнуть к темноте, на минуту закрыл глаза.
До чего неумолимо время, и есть ли что еще столь неотвратимо жестокое? Катастрофа за катастрофой. Чем он прогневил судьбу? И почему дни, люди, события — все стало вдруг черным? Угрюмость легко и часто у него сменялась отчаянием, отчаяние — исступлением. Приходилось признать, время вышло из его повиновения. А еще недавно оно было во всем подвластно его воле. Это становилось невыносимым и страшно давило его, лишая сил, власти над собой и над другими, над кем еще вчера повелевал он так самодержавно.
Нет, власть превыше всего! Он ценит ее больше, чем любовь и дружбу, больше, чем всех людей, даже больше, чем Германию. Пусть считают его порождением сатаны, он смело глядит в даль, возможно, в страшную даль. Ему нужно до конца осознать свое назначение, свое великое назначение. Говорят, созидать — радость, но и разрушать — тоже радость. Высшее наслаждение, когда рушатся города и страны по твоей воле. Но и своих поражений он не отдаст никому. После них слаще любой успех. Пусть его предают анафеме: в этом тоже своя прелесть. Пусть мир кипит против тебя гневом и ненавистью, а в тебе растет неукротимая воля, обостряющая разум.
Невольно вспомнилась испанская фреска: старый орел с четырьмя орлятами. Двое раздирают клювом его крылья, третий впился когтями в его грудь. Четвертый же сидит у него на шее и выклевывает ему глаза.
Гитлер даже зажмурился. Ему тоже готовы подрубить крылья, разодрать грудь, ослепить глаза. Но нет! У него еще крепки крылья, остры когти и зорок глаз.
Пусть бежит себе река времени, пусть вскипает волнами и водоворотами. Каждый ищет свое. Сам он не беспомощная щепка в потоке времени, и ему не нужна тихая заводь. И не простой очевидец, что стоит на берегу, равнодушно созерцая все вокруг. Нет, он был и остается повелителем времени и не выпустит судеб мира из своих рук.