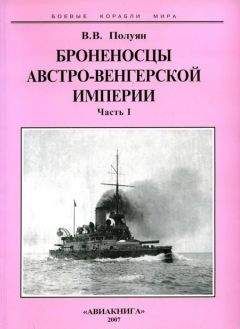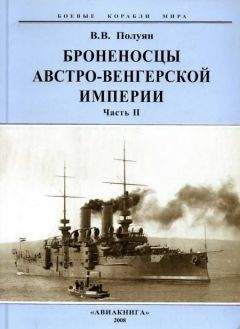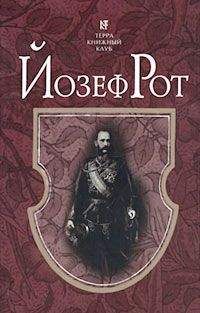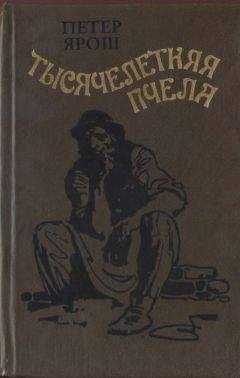Яромир Йон - Вечера на соломенном тюфяке (с иллюстрациями)
Правда, ничего еще не рассказывал пан Квасничка, этот поэт тесла и точила. Но он, вы видите, лежит недвижно на своем солдатском ложе, накрывшись с головой шинелью. У него воспаление надкостницы — заболевание очень тяжелое, случившееся оттого, что процесс гниения зуба мудрости захватил корень. Не так ли, пан Квасничка?
А хуже всего, что он уже третью ночь от боли не смыкает глаз. Молчит, бедняга… Не отвечает… Нет, нет… прошу вас, не беспокойте его. Ведь вопрос мой был чисто риторическим.
Ну, а коль скоро в доме у нас больной, постараемся вести себя как можно тише. Беседа от этого станет еще приятнее, еще задушевнее и тем живо напомнит ночные собрания наших отцов и дедов, при свете лучины и под жужжанье прялки предававшихся воспоминаниям о славном прошлом любимой отчизны.
Прежде всего прошу извинить меня, господа, за то, что я не владею даром красноречия. Вы, конечно, и сами это заметили, не так ли?
Теперь ближе к существу вопроса.
Как бы ни старался я в меру своих возможностей описать вам это смешное происшествие, заявлю сразу — оно более достойно внимания кого‑либо из наших прославленных писателей, Сватоплука Чеха, например, или Неруды, а из современных литераторов с такой задачей лучше всего справилось бы острое перо Йозефа Сватоплука Махара. Писатели эти в своих юмористических произведениях преподали нам образцы художественной отделки сюжетов самых разнообразнейших.
Не подумайте, будто я вознамерился равняться с ними. Нет, я весьма далек от такой нелепой мысли.
Сознавая, сколь слабо владею я искусством повествователя, постараюсь говорить просто, как бог на душу положит — если вы позволите мне прибегнуть к подобному народному выражению. И это будет, пожалуй, лучше всего, не так ли?
После сего краткого вступления перехожу прямо к занимающей нас авантюрной истории.
Господа! Сдав весной 1916 года с отличием, в присутствии специальной комиссии, экзамен на право преподавания в городских училищах, я подал прошение в школьно-попечительский совет Королевства чешского о предоставлении мне места, соответствующего званию учителя. Однако просьба моя не удовлетворена и поныне, уже по прошествии целого года. Составив завещательное распоряжение, а затем рассчитавшись со всеми мелкими долгами, я оплатил за полгода вперед прокат фисгармонии и, таким образом, готов был оставить свое излюбленное поприще с тем, чтобы поступить на военную службу.
Коллегу Дртилека, преемника своего, я в подробностях ознакомил с обязанностями заведующего кабинетом природоведения, который учрежден попечением самого господина окружного инспектора. В этом кабинете, получившем название «Школьный военный музей», в идеальном порядке содержались образцы шрапнели и патронов, вышедшее из употребления оружие, карты сражений, в которых принимали участие наши доблестные войска, диаграммы, модель мортиры, употреблявшаяся в качестве пресс-папье, а также прейскурант цен на провиант, с расчетом дневного довольствия на одного солдата.
На следующее утро в одиннадцать часов со мной прощались учащиеся школы.
Будучи введен нашим престарелым паном директором, а также господином окружным инспектором, приехавшим именно в это время для инспектирования школы, в празднично убранный класс, я просто онемел от удивления.
Сначала ученики в качестве приветствия с огромным воодушевлением спели несколько народных песен, а затем Божена Сватонева — дочь прогрессивно мыслящего местного землевладельца пана Сватоня — преподнесла мне букет цветов. Засим мы слушали глубоко прочувствованную речь нашего директора и краткое, однако исполненное самого искреннего патриотизма и лояльное по отношению к правящему дому слово окружного инспектора о значении военной службы, адресованное молодежи. Под конец ученики пропели гимн народов Австрии в сопровождении фисгармонии и скрипки.
Этим завершилась торжественная часть церемонии.
А потом в ближайшем городке, в трактире у пана Малика состоялся устроенный в мою честь прощальный вечер.
Певческое общество «Люмир», членом коего я был, исполнило хор композитора Пиводы, и, надо сказать, исполнило с поразительно свободой интонаций — четкой дикцией и многообразием оттенков, в чем главная заслуга принадлежала нашему хормейстеру — господину директору, управлявшему хором с редким самообладанием. К огорчению присутствующих, не были исполнены «Моравские дуэты», но зато с каким чувством декламировала под музыку стихотворение «Водяной» маленькая Анушка Покорна! Прелестная крошка не забывала сопровождать мелодекламацию приличествующими теме жестами, в полной мере проявив при этом свое незаурядное дарование. Барышня Ричи Новотна — дочь городского советника пана Новотного — спела арию Барчи из «Поцелуя», причем с таким умением и чувством, что буквально покорила всех. А при исполнении «Венка из опер Сметаны» Бауэра-Мартинковского хор показал столь высокое искусство и такую слаженность, что тщетно было бы искать нечто подобное даже в городах с куда более значительным населением.
После приятных развлечений и танцев грустно было возвращаться домой.
С чувством глубокого душевного волнения покидал я на следующее утро нашу деревеньку, красиво расположенную в лесистой местности, и затуманенным от слез взором глядел на бедные нивы, живописные соломенные кровли, холмы и леса вдали, которые я не раз самым обстоятельным и добросовестным образом обследовал как натуралист и где мне знаком каждый камень.
В судьбе моей ничего уже нельзя было переменить, не так ли?
Простившись с милой матушкой, с сестрицей и братом, двадцать седьмого июня я выехал в Младу Болеслав.
Оттуда военная судьба бросила меня хоть и в нищую, зато изобилующую природными красотами страну жизнерадостных черногорцев, а затем я попал в девственные дебри гористой Албании, познакомился с ее мужественным, красивым, рослым, свирепым на вид народом, однако во всем, что касается образованности, стоящим на чрезвычайно жалком уровне.
Белее всего меня интересовала сама природа — горная местность с журчащими потоками и дремучими лесами, а поскольку к тому времени воинская служба наша стала значительно легче, то я получил возможность изучать еще неизвестную мне приморскую и высокогорную флору.
В своем ранце я носил деревянный ручной пресс для засушки цветов, литр денатурированного спирта как средство для умерщвления жуков, складной сачок для ловли бабочек и несколько прочных коробочек с пробковыми вкладками.
В свободные минуты я с усердием собирал экспонаты по склонам албанских гор, пользуясь помощью солдат нашего взвода, помощью хоть и добровольной, но иной раз слишком уж неуклюжей и для дела вовсе не безвредной. Сколько нежнейших крылышек, принадлежавших редчайшим экземплярам, измяли их грубые руки! Сколько цветов, которые я намеревался сорвать и уже было нагнулся, протянув к ним руку, растоптано громадными горными ботинками! Не раз случалось, что драгоценная находка, могущая составить украшение кабинета природоведения в любой школе, погибала под взрывы хохота, под грубые, а порой и обидные для меня солдатские шутки…
Я старался привить моим товарищам верный взгляд на коллекционирование; а так как от природы я обладаю большим терпением, то мне удалось воспитать себе несколько помощников, которые, презрев игру в карты и куренье, принялись с жаром выполнять мои задания, разумеется не выходя из рамок своих прямых воинских обязанностей.
Да, можно не сомневаться: мы сделали большое дело, а вместе с тем испытали удовлетворение, и сколь благородное!
Как человек некурящий, член общества трезвости, я мог вознаграждать своих помощников причитающимися мне табаком и ромом.
Наш взводный Крейцфингер, гордый сын страны Андрея Гофера, желая заслужить мое одобрение, принес мне однажды целую фуражку капустниц — бабочек Ubiquista, имеющих широкое распространение со всех странах умеренного пояса.
Признаюсь, рвение Крейцфингера, хоть я и поблагодарил его, привело меня в некоторое замешательство, тем паче, что среди изуродованных мертвых капустниц я обнаружил черепаху Chelonia, а на самом дне фуражки — несколько земляных червей, клешню ядовитого скорпиона, чей‑то помет и труп крота, совершенно высохшего на солнце.
Впрочем, добровольные дары следует принимать с благосклонной улыбкой, не так ли?
Время тогда было тяжелое, земля черногорская нас не баловала, и питания, углеводов в особенности, нам ощутимо недоставало. С чувством глубочайшего внутреннего протеста таскал я на своем горбу австрийский солдатский ранец через горы и долы, поля и леса, и часто настроение у меня было самое что ни на есть грустное.
Но вот однажды взгляд мой остановился на старом, трухлявом пне.
— Опята! Armillaria mellea! — вырвалось у меня из груди, и, позабыв, все свои невзгоды, я устремился к ним.