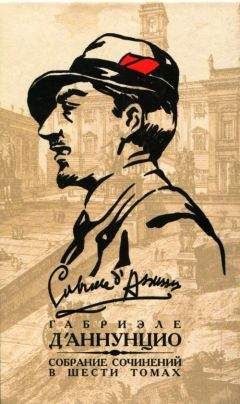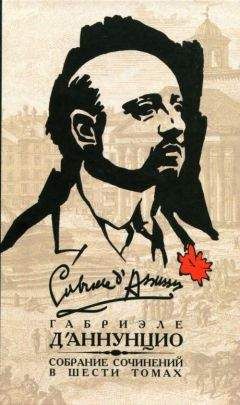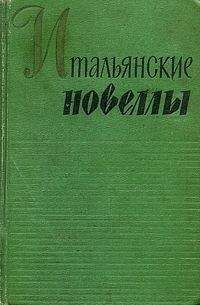Габриэле д'Аннунцио - Собрание сочинений в 6 томах. Том 2. Невинный. Сон весеннего утра. Сон осеннего вечера. Мертвый город. Джоконда. Новеллы
Джоконда (не меняя тона). Та, которую я знаю, не такая. Она говорит глухим голосом только потому, что стоит перед вами опечаленная. Она уважает великую и скорбную любовь, которой вы живете, она удивляется силе, воодушевляющей вас. Когда вы говорили, она отлично понимала, что только для утешения в невыразимом отчаянии ваши слова нарисовали образ, так бесконечно отличающийся от действительности. Неумолимого в ней нет ничего, она сама повинуется могуществу, которое оказывается безжалостным.
Сильвия (с горечью, с гордостью). Я знаю, что вы искусны во всех видах красноречия.
Джоконда. К чему эта резкость? В ваших первых словах звучало другое, когда вы мне задали ваш вопрос, мне показалось, что вы просто хотели узнать истину.
Сильвия. Ав чем же ваша истина?
Джоконда. Истина, имеющая значение для нас обеих, одна: истина любви. Вы это знаете. Но я боюсь сделать вам больно.
Сильвия. Не бойтесь.
Джоконда. Женщина, которой вы сделали столько упреков, была горячо любима и — позвольте мне сказать это! — любима славной любовью. Она не унизила, а возвысила некую сильную жизнь. И, так как последнее слово, которое она слышала за несколько минут до наступления этого ужасного события, было слово любви, то она верит, что она любима и теперь. Вот истина, которая имеет значение.
Сильвия (страстно). Она ошибается, ошибается… Вы ошибаетесь! Он не любит вас больше, больше не любит, может быть, и не любил вас никогда. Это была не любовь с его стороны, а отравление, жестокое рабство, безумие и горячка. Когда он мучился на своем одре, воспоминания проходили перед его глазами одно за другим, как пугающие молнии. И, рыдая у ног моих, он благословил кровь, послужившую делу его искупления… Он не любит вас, не любит!
Джоконда. Крик вашей любви — крик потерпевшего крушение.
Сильвия. Он не любит вас! Вы были для него докучным оводом, вы довели его до бешенства, толкнули его в объятия смерти…
Джоконда. Не я, не я толкнула его на смерть, — вы сами. Правда, он хотел умереть, чтобы освободиться от уз, но не от тех, которыми я его связала: от других, от ваших уз, от тех, которые наложила на него ваша добродетель или ваше право и которые заставляли его выносить невыносимые мучения.
Сильвия. Ах, нет ничего, что вы не осмелились бы исказить. От него, из его собственных уст, в минуту, когда вся его душа поднялась к свету, от него самого я слышала: «Если иго может быть разбито насильственно, то я благословляю насилие!» Он сам сказал мне это, когда вся его душа снова раскрылась для истины.
Джоконда. Но здесь, за несколько часов до того, как он склонился перед ужасной мыслью, вот здесь — тому свидетели все эти предметы — он говорил мне самые жгучие и самые нежные слова, какие только могла подсказать его любовь, на этом самом месте он называл меня жизнью своей жизни, не раз он посвящал меня здесь в свои мечты о забвении, о свободе, о творчестве, о радости. И здесь же он говорил мне о невыносимости быть связанным, о неизбежном бремени доброты, более жестоком, чем всякое другое, об ужасах ежедневной пытки, о своем отвращении возвращаться в жилище безмолвия и слез, отвращении, сделавшемся теперь уже непреодолимым…
Сильвия. Нет, нет! Вы лжете.
Джоконда. И, чтобы избавиться от этого душевного беспокойства, в один вечер, когда все показалось ему сумрачней и молчаливей, он искал смерти…
Сильвия. Вы лжете! Лжете! Я тогда была далеко. Джоконда. А вы обвиняете меня в том, что я была виной этого ужасного страдания, сделалась его палачом! Ах, одни ваши руки, руки существа, полного доброты и прощения, каждый вечер приготовляли ему ложе из терниев, лечь на которое он больше не желал. Зато, когда он приходил сюда, где я ждала его, как ждут созидающего бога, он преображался. Перед своим произведением он снова возвращал себе силы, радость, веру. Правда, одной лихорадкой, которую зажгла и поддерживала действительно я — и в этом вся моя гордость — его кровь горела, но при помощи огня этой лихорадки он создал свое несравненное произведение.
Жестом она указывает на статую, скрытую за занавесом.
Сильвия. Оно не первое, не будет и последним.
Джоконда. Конечно, оно не последнее, потому что другое уже готово вырваться из глиняной оболочки, другое уже вздрагивало от прикосновения его одушевляющих пальцев, потому что другое уже наполовину живет и с минуты на минуту ждет, что волшебство искусства окончательно извлечет его на простор света. Ах, вам непонятно это нетерпение вещества, которому обещан дар совершенной жизни!
Сильвия поворачивается к занавесу, делает несколько шагов, медленно, с очевидной непроизвольностью движения, как если бы она повиновалась таинственному влечению.
Она — там, глина — там. Я берегла первое сообщенное ей дыхание жизни каждый день, как поливают борозду, в глубине которой посеяны семена. Я не дала ему погибнуть. Отпечаток — там цел. Последняя черта, проведенная его дрожащей рукой, в последний час, видна там, она сильна и свежа, как если бы была проведена только вчера, и так могуча, что даже под тяжестью исступленной скорби моя надежда смотрела на нее, как на подтверждение жизни, и черпала из нее свою силу.
Сильвия останавливается перед занавесом, как в первый раз, и остается там неподвижной и безмолвной.
Да, правда, в это время вы были у изголовья умирающего, отдаваясь беспрерывной борьбе, чтобы вырвать его из когтей смерти, в этом вам можно было только позавидовать, за это вы будете прославлены навеки. Вы жили борьбой, волнением, напряжением сил: вы могли делать даже то, что казалось вам сверхчеловеческим, но что в то же время и опьяняло вас. У меня не было этой возможности, и, вот, в отдалении и одиночестве, я могла — при всей сосредоточенности порыва — подавлять силу своего страдания, давая ему выход только в молитве. Моя вера была равна вашей, и нет сомнения, что с такой верой я была вашей союзницей в борьбе со смертью. Я не дала погаснуть последней творческой искре, оторвавшейся от его гения, от Божьего огня, пылающего в нем, я не переставала заботиться о том, чтобы она жила, заботиться с благоговейной и беспрерывной бдительностью… Ах, кто может сказать, чего достигла спасительная сила подобной молитвы?
Сильвия делает движение повернуться, как бы желая ответить ей, но удерживается.
Я знаю, знаю: то, что я сделала, очень легко и просто. Я знаю: это не есть героическое усилие, это — простая задача рабочего. Но не само дело важно. Что важно — это состояние души, при котором что-нибудь делается, единственное, что важно, это — жар. Нет ничего священнее произведения, которое начинает жить. Если чувство, с которым я его оберегала, может сообщиться и вашей душе, идите и посмотрите! Чтобы произведение продолжало жить, необходимо мое видимое присутствие. Признав эту необходимость, вы поймете, что в своем ответе на ваш вопрос, в этом «может быть», я хотела выразить уважение к сомнению, которое могло быть в вас, но которого не было во мне, которого во мне и нет. Вы не можете чувствовать себя здесь беспечной, как у себя дома. Здесь — не просто дома. Семейные ощущения не имеют здесь места, домашние добродетели не имеют здесь своего святилища. Этот дом — место, стоящее вне законов, вне общих правил. Здесь скульптор создает свои статуи. Здесь он одинок среди приспособлений своего искусства. Я сама — только орудие его искусства. Меня Природа послала к нему передать ему ее завет и служить ему. И я повинуюсь, ожидаю его, чтобы служить и впредь. Если бы он пришел теперь, он должен был бы продолжать работу над прерванным произведением, которое начало жить под его пальцами. Войдите и посмотрите!
Сильвия остается перед занавесом, не делая ни шага вперед. Усиливающаяся дрожь пробегает по всему ее телу, обнаруживая глубокое внутреннее волнение, в это время голос противницы становится все более и более вспыльчивым и резким, делаясь к концу открыто враждебным. Сильвия внезапно поворачивается, задыхаясь, порывисто, решившись на крайнее средство обороны.
Сильвия. Нет. Бесполезно. Слишком искусны слова. Вы изощрены во всех видах красноречия. Вы представляете делом любви и преданности то, что в действительности является предусмотрительностью и ловушкой. Прерванное произведение должно было погибнуть. Той же рукой, которой он провел по глине черту жизни, той же рукой он взял оружие и направил его против своего сердца. Он не поколебался отделить себя от своего произведения самой мрачной из пропастей. Из нее поднялась смерть и уничтожила все связи. Прерванное погибнет. Он переродился, он — новый человек, его влечет к другим приобретениям. В его глазах вспыхнул новый свет, его силы горят нетерпением создавать другие формы. Все, что осталось за ним, по ту сторону мрака, не имеет больше никакой власти над ним, не имеет для этого никакой цены. Какое ему теперь дело до того, что какая-то старая глина рассыпается в пыль? Он забыл ее. Он найдет другую, свежее этой, чтобы воплотить в нее дыхание своего возрождения, вылепить образ идеи, которая воспламеняет его теперь. Долой старую глину! Как вы можете убедить себя, что вы необходимы для его искусства? Создающему человеку не нужно никого. Все в нем самом сосредоточено. Вы говорите, что Природа послала вас передать ему свой завет. Так он уже принял его, понял и исполнил его с крайней выразительностью. Что еще он мог бы взять от вас? Что еще вы могли ему дать? Дважды достигать одной и той же вершины непозволительно, как невозможно дважды совершить одно и то же чудо. Вы остались по ту сторону, по ту сторону сумрака, далеко, в одиночестве, на старой земле. Он теперь идет в новые земли, где его ждут другие заветы. Его сила кажется естественной, а красота мира бесконечна.