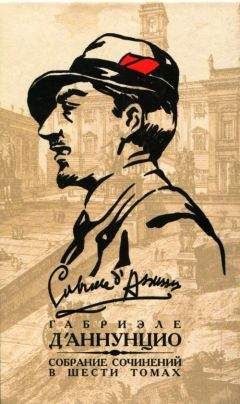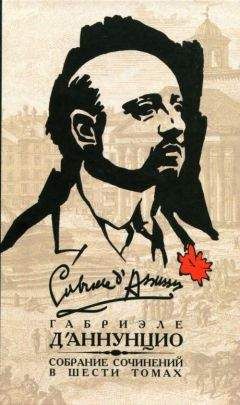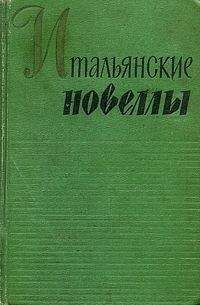Габриэле д'Аннунцио - Собрание сочинений в 6 томах. Том 2. Невинный. Сон весеннего утра. Сон осеннего вечера. Мертвый город. Джоконда. Новеллы
Молчание. Он подозрительно озирается кругом, боясь быть услышанным. Он придвигается ближе к другу, который слушает его с возрастающим волнением.
Я тебе сказал: тысяча статуй, не одна. Ее красота живет во всех обломках мрамора. Я это почувствовал, волнуясь от досады и какой-то страсти, однажды в Карраре, когда она стояла рядом со мной и мы наблюдали, как с высоты спускались запряженные рослыми волами телеги с мрамором. В каждом из этих бесформенных обломков было заключено для меня какое-нибудь проявление ее совершенства. Мне казалось, что от нее, как от потрясаемого факела, падают в этот грубый минерал тысячи одушевляющих его искр. Нам нужно было выбрать одну из глыб. Помню, был ясный день. Лежавшие перед нами куски мрамора сверкали на солнце сиянием вечных снегов. До нас то и дело доносился гул взрывов, рвавших недра безмолвных гор. Я не забуду этого часа, даже если еще раз мне придется умирать… Она ходила по груде этих белых кубов, останавливаясь перед каждым. Нагибаясь, осматривала внимательно зерно, казалось, исследовала их внутренние жилы, колебалась, смеялась, отходила. Платье не скрывало от моих глаз ее формы. Было какое-то божественное родство между ее телом и мрамором, которого касалось ее дыхание, когда она наклонялась к нему. Я чувствовал, что, в свою очередь, какое-то неуловимое дыхание поднималось и к ней от этой неподвижной белизны. Ветер, солнце, величие гор, длинные вереницы запряженных волов, дуги старинных ярем, скрип телег, туча, поднимавшаяся от Тиррентского моря, недосягаемый полет орла, — все окружавшие меня явления подняли мой дух до беспредельной поэзии, опьяняли его мечтой, равной которой я не знавал… Ах, Козимо. Козимо, а я имел смелость бросать жизнь, над которой сияет слава такого великого воспоминания. Когда она протянула руку к выбранному ею куску мрамора и, повернувшись ко мне, сказала: «Этот», — вся гора от подошвы до вершин дышала красотой.
Необыкновенный жар согревает его голос и оживляет его жесты. Его слушатель очарован, скрывая свое очарование.
Ах, теперь ты понимаешь! Ты не будешь больше спрашивать, доволен ли я. Теперь ты знаешь, как неистово должно быть мое нетерпение, когда я думаю, что в это мгновение она там, одна, у подножья Сфинкса, что она ждет меня. Подумай: ее изваяние стоит над ней, неподвижное, неизменное, свободное от всякого страдания, тогда как сама она охвачена беспокойством и жизнь ее уходит, и некоторая часть ее существа постепенно гибнет во времени. Промедление — смерть… Но ты не знаешь, ты не знаешь…
У него голос человека, вверяющего свою тайну.
Козимо. Какая часть?
Лючио. Ты не знаешь, что я уже начал другую статую…
Козимо. Другую?
Лючио. Да: она осталась незаконченной, намеченной в глине. Глина высыхает, все гибнет.
Козимо. В самом деле?
Лючио. Я считал ее погибшей. (Властная улыбка сияет в его глазах. Голос его дрожит.) Но она не погибла: она еще живет. След последнего прикосновения моего пальца еще там, еще живет.
Делает невольное движение ваятеля.
Козимо. И как же это?
Лючио. Она знакома с приемами искусства, она знает, как сохранять глину в мягком виде. Она мне помогала одно время. Она сама смачивала полотно…
Козимо. Значит, она заботилась о том, чтобы сохранить влажной глину, в то время как ты умирал!
Лючио. А разве это не своего рода борьба со смертью? Разве это не изумительное дело веры? Она спасла мое произведение…
Козимо. Тогда как другая спасла тебе жизнь…
Лючио (сдвинув брови, поникнув головой, не глядя на друга, почти жестоким голосом). А что из этих двух вещей имеет большую цену? Жизнь невыносима для меня, если мне возвращают ее, обременив ограничением. Я сказал тебе: нужно было дать мне умереть. Какое отречение может сравниться с тем, которое я сделал? Одна смерть могла остановить упорное желание, которое роковым образом увлекает мое существо к его благу. Вот я оживаю: я узнаю в себе то же самое человеческое существо, ту же самую силу. И кто будет судить меня, если я повинуюсь указаниям судьбы своей?
Козимо (в испуге взяв его за руки, как бы стараясь удержать его). Что же ты будешь делать? Ты уже решил?
Пораженный внезапным ужасом, сказывающимся и в голосе, и в движениях друга, Лючио теряется, колеблется.
Лючио (лихорадочно ероша свои волосы). Что буду делать? Что буду делать? Ты знаешь более жестокую пытку? У меня голова кружится, понимаешь? Когда я думаю, что она там, ожидает меня, что время уходит, тратятся мои силы и мой пыл исчезает, — влечение овладевает всей моей душой, и я боюсь, что не сегодня — завтра влечение пересилит. Ты знаешь, что такое головокружение? Ах, если бы ты мог снова открыть мою рану!
Козимо (стараясь подвести его к окну). Успокойся, Лючио, успокойся! Молчи! Мне послышался голос…
Лючио (вздрагивая). Голос Сильвии?
Покрывается смертельной бледностью.
Козимо. Да. Успокойся! Тебя лихорадит.
Касается его чела. Лючио облокачивается о подоконник, словно силы покинули его.
Сцена IIВходит Сильвия Сеттала с Франческой Дони. Франческа одной рукой держит сестру за талию.
Сильвия. О, Дальбо, вы еще здесь?
Лица Лючио, который повернулся к открытому окну, ей не видно.
Козимо (приходя в себя, здороваясь с Франческой). Лючио задержал меня…
Сильвия. Ему надо было многое сказать вам? Козимо. У него всегда много, что сказать мне, может быть, слишком много. Он так устает.
Сильвия. Он вам говорил, что в субботу мы едем к устью Арно?
Козимо. Да, я знаю.
Франческа. Вам не приходилось бывать там? Козимо. Нет, никогда. Я знаю только пизанские окрестности, Сан-Россоре, Гомбо, Сан-Пьетро-ин-Градо, но до самого устья реки не добирался никогда. Знаю, что взморье великолепно.
Сильвия пристально всматривается в мужа, неподвижно стоящего в стороне, у подоконника.
Франческа. Берег моря в это время восхитителен, открытый, низменный, усыпанный мелким песком, море, река, лес, запах водорослей, запах древесной смолы, чайки, соловьи… Вы должны часто навещать Лючио, пока он будет там.
Козимо. Конечно.
Сильвия. Можете и погостить у нас.
Она отходит от сестры и своей легкой походкой направляется к мужу.
Франческа. У нашей матери там есть очень скромный, но большой дом, выбеленный внутри и снаружи, в густой роще олеандров и тамарисов, там есть старый спинет времен Империи, принадлежавший — представьте, кому! — одной из сестер Наполеона, герцогине Луккской, этой ужасной и костлявой Елизавете Бачиокки: спинет, который иногда пробуждается и плачет под рукой Сильвии, а если воспоминание о Наполеоне не прельщает вас, так есть еще отличная лодка, белая, как и дом.
Сильвия стоит за спиной Лючио. Он по-прежнему погружен в себя.
Козимо. Жить в какой-нибудь лодке, на воде, как придется: нет ничего, что глубже успокаивало бы. Я жил так по целым неделям.
Франческа. Нужно посадить выздоравливающего в лодку и предоставить его тихому морю…
Сильвия (слегка трогая мужа За плечо). Лючио!
Он вздрагивает и оборачивается.
Что ты делаешь? Мы здесь. И Франческа здесь.
Пошатываясь, он смотрит жене в глаза, затем пытается улыбнуться.
Лючио. Собирается проливной дождь. Я ждал первых капель: запах земли…
Он наклоняется еще раз к окну, протягивая в воздух ладонь, рука у него заметно дрожит.
Франческа. Апрель то плачет, то смеется.
Лючио. О, Франческа! Как поживаете? Франческа. Хорошо. А вы, Лючио?
Лючио. Хорошо, хорошо.
Франческа. Стало быть, в субботу едете. Лючио (глядя на жену, озадаченный). Куда? Франческа. Как куда! В устье Арно.
Лючио. Ах, да, конечно. У меня голова совсем слаба стала.
Сильвия. Разве ты нехорошо чувствуешь себя сегодня?
Лючио. Нет, хорошо. Погода несколько расстраивает меня, но я чувствую себя хорошо, довольно хорошо.