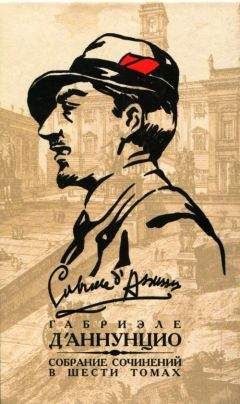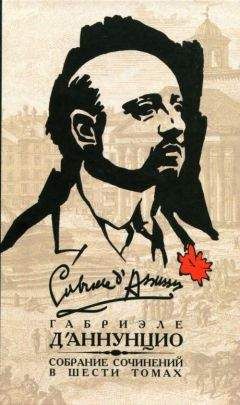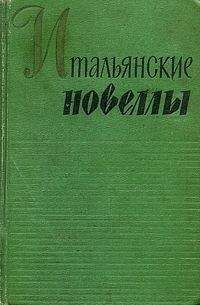Габриэле д'Аннунцио - Собрание сочинений в 6 томах. Том 2. Невинный. Сон весеннего утра. Сон осеннего вечера. Мертвый город. Джоконда. Новеллы
— Он гораздо проще своих книг, — прибавила она развязно, медленно надевая свои перчатки. — Ты читал Тайну?
— Да, я читал.
— Тебе нравится?
Не подумав, из инстинктивной потребности подчеркнуть перед Джулианной свое превосходство, я ответил:
— Нет. Посредственная книга.
Наконец, она сказала:
— Я ухожу.
И она сделала движение, чтобы выйти. Я проводил ее до передней, идя по ароматному следу, легкому, едва-едва заметному, который она оставляла за собой. Уходя, она сказала только:
— До свиданья.
И легким шагом переступила порог.
Я вернулся в свои комнаты.
Я открыл окно и высунул голову, чтобы посмотреть как она идет по улице.
Она шла своей легкой поступью по солнечной стороне; она шла прямо, не поворачивая головы.
Лето св. Мартина (бабье лето) бросало легкую позолоту на прозрачное небо; спокойная теплота смягчала воздух и вызывала аромат отцветших фиалок Бесконечная тоска тяжестью легла на меня, прислонила меня к подоконнику и мало-помалу становилась невыносимой. Редко в своей жизни мне приходилось страдать так, как от этого сомнения, сразу разрушавшего мою веру в Джулианну, веру, длившуюся столько лет; редко моя душа кричала так сильно вслед исчезавшей иллюзии. Но действительно ли это было так, исчезло бесповоротно? Я не мог, я не хотел убеждаться в этом. Эта великая иллюзия была спутницей всей моей греховной жизни, она отвечала не только требованиям моего эгоизма, но и моей эстетической мечте о нравственном величии. «Так как нравственное величие является результатом преодоленных страданий, то для того, чтобы быть героиней, она должна выстрадать все причиненные мною страдания». Эта аксиома, при помощи которой мне не раз удавалось успокоить свою совесть, глубоко укоренилась в моем уме, вызвав в лучшей части моего «я» идеальный призрак, возведенный мною в платонический культ. Мне — развращенному, лживому, слабому — нравилось находить в кругу своего существования душу строгую, прямую, сильную, душу неиспорченную, и мне нравилось, что я любим ею, вечно любим. Весь порок, все мое несчастье, вся моя слабость находили опору в этой мечте. Я верил, что для меня могла осуществится мечта всех интеллектуальных людей: быть постоянно неверным женщине, постоянно верной. «Что ты ищешь? Опьянения жизнью? Ну, так иди, опьяняйся. В твоем доме, подобно прикрытому образу в святилище, будет ждать молчаливое, помнящее о тебе существо. Лампада, в которую ты не наливаешь больше ни капли масла, все еще горит. Разве это не мечта всех интеллектуальных людей?»
И потом: «В какой угодно час, после какого угодно приключения ты найдешь ее по своем возвращении. Она уверена в твоем возвращении и она не расскажет тебе о своем ожидании. Ты положишь ей голову на колени, и она будет проводить концами своих пальцев по вискам, чтобы успокоить твою боль». И я предчувствовал такого рода возвращение: окончательное возвращение после одной из тех внутренних катастроф, что совершенно меняют человека. И отчаяние мое было смягчено тайной уверенностью в вечном убежище, и в глубину позора спускался луч от этой женщины, которая, благодаря моей любви и моим поступкам, достигла вершины моего идеала.
Одного сомнения оказалось достаточно, чтобы все это разрушить в одно мгновение.
Я стал обдумывать с начала до конца всю сцену, происшедшую между Джулианной и мной, с того момента, как я пришел, и до ее ухода.
И хотя я приписывал большую часть моего волнения особенному временному нервному состоянию, я все-таки не мог рассеять странного впечатления, положительно выражавшегося в следующих словах:
«Она казалась мне другой женщиной. В ней, наверное, произошла какая-то перемена. Но в чем? Разве посвящение Филиппа Арборио не действовало успокоительно? Разве оно не утверждало, что Turris Eburneo была непобедима. Это громкое наименование было подсказано автору или просто славой чистоты, окружавшей имя Джулианны Эрмиль, или же попыткой неудавшейся атаки, или, может быть, отказом от предпринятой осады. Итак, значит, башня из слоновой кости была еще нетронута».
Рассуждая таким образом, чтобы успокоить муку подозрения, я испытывал в тайниках души смутный страх, как будто боялся, что вот сейчас появится насмешливое выражение: «Ты знаешь, что кожа Джулианны удивительно бела. Она именно бледна, как ее рубашка. Благочестивое наименование могло скрывать нечестивое значение… Но это недостойно? Э-хе! какие тонкости!»
Приступ нетерпения и гнева прервал это унизительное и тщетное обсуждение. Я отошел от окна, пожал плечами, прошелся два-три раза по комнате, открыл машинально книгу, оттолкнул ее. Но отчаяние мое не уменьшилось. «В общем, — подумал я, останавливаясь точно перед невидимым врагом, — к чему все это ведет? Или она уже пала, и потеря непоправима; или же она находится в опасности, но в теперешнем моем состоянии я не могу спасти ее; или же она чиста и обладает силой сохранить эту чистоту, — тогда ничего не изменилось. Во всяком случае я лично ничего не могу сделать. Кризис страдания пройдет. Нужно подождать. Белые хризантемы на столе Джулианны, как они были красивы! Пойду, куплю большой, точно такой же букет. Свидание с Терезой сегодня назначено в два часа… Разве она не сказала мне в последний раз, что хочет видеть камин зажженным. Это будет первый огонь зимою, в такой теплый день. Кажется, теперь черед доброй недели. Если бы это продлилось. Но при первом же случае я вызову Евгения Эгано». Моя мысль приняла новое течение с неожиданными остановками, с непредвиденными уклонениями.
Среди образов предстоящего сладострастия мелькал другой, нечистый образ, которого я боялся, от которого хотел бежать! Некоторые смелые и страстные страницы Истинной католички пришли мне на память. И одна страсть рождала другую, и хотя я и страдал различными страданиями, но обе женщины были для меня одинаково осквернены, Филиппо Арборио и Евгений Эгано одинаково ненавистны.
Кризис прошел, оставив в душе какое-то смутное презрение и злобу относительно сестры. Я еще больше отдалился от нее, я становился все более жестоким, более пренебрежительным, более скрытным. Моя печальная страсть к Терезе Раффо становилась все более исключительной, захватила меня всего, не оставляя ни одного часа покоя. Действительно, я был каким-то бесноватым, человеком, одержимым дьявольским безумием, я был пожираем какой-то неизвестной и страшной болезнью. В моем уме сохранились об этой зиме лишь смутные воспоминания о какой-то странной неизвестности.
В эту зиму я не встречал у себя Филиппо Арборио; редко встречал его и в общественных местах. Но однажды вечером мы очутились с ним в фехтовальной зале; там мы познакомились, были представлены друг другу учителем, обменялись несколькими словами.
Газовый свет, скрип пола, блеск и лязг шпаг, неловкие или элегантные позы фехтующих. Быстрые движения всех этих рук, теплое и едкое испарение всех этих тел, гортанные звуки, грубые восклицания, взрывы смеха восстановляют в моей памяти с поразительной ясностью всю сцену в момент, когда мы стояли друг против друга и учитель фехтования назвал наши имена. Я как сейчас вижу жест, которым Филиппо Арборио поднял маску, и показал разгоряченное, вспотевшее лицо. Держа в одной руке маску, а в другой рапиру, он поклонился. Он тяжело дышал, он был утомлен, его сводила судорога, видно было, что он не привык к физическим упражнениям. Инстинктивно я подумал, что он не страшен на поединке. Я отнесся к нему с высокомерием, я нарочно не сказал ни слова, которое относилось бы к его известности или к моему поклонению. Я держал себя с ним как с первым попавшимся незнакомцем.
— Итак, — спросил меня учитель, улыбаясь, — на завтра?
— Да, в десять часов.
— Вы деретесь? — спросил Арборио с нескрываемым любопытством.
— Да.
Он поколебался немного, потом прибавил:
— С кем? Простите за нескромный вопрос.
— С Евгением Эгано.
Я заметил, что ему хотелось узнать что-нибудь большее, но его сдерживало мое холодное и явно невнимательное обращение.
— Учитель, ассо пять минут, — сказал я и повернулся, направляясь в раздевальную. Но на пороге я остановился и поглядел назад; я увидел, что Арборио снова принялся фехтовать. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что он очень слаб в этой игре.
Когда я начал accо с учителем на глазах у всех присутствующих, мною овладело какое-то особенное нервное возбуждение, удвоившее мою энергию. Я чувствовал на себе пристальный взгляд Филиппо Арборио. Потом мы еще раз встретились в раздевальной. Чересчур низкая комната уже была полна дыму, противного острого человеческого запаха. Все, сидевшие там в широких белых халатах, терли себе грудь, руки, плечи, не спеша, куря, громко шутя, в грязных разговорах давая волю своей грубости. Шум фехтования чередовался с грубым смехом.