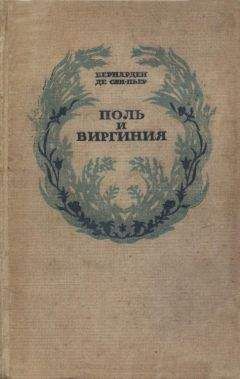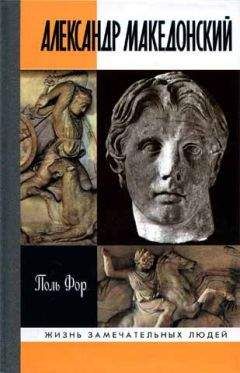Грубиянские годы: биография. Том I - Поль Жан
В конце концов дети, которым мать велела взяться за руки, отправились вместе с ней к госпоже крестной. В зал, напевая, вошел долговязый тиролец – в зеленой шляпе, с которой ниспадали колышущиеся пестрые ленты. Вальт допил вино и вышел на улицу. Прекрасен был мир снаружи, даже и в самом Хэрмлесберге. В деревне слышались громкие удары – кто-то разрубал бревна, быстро прикладывал к ним красный мерный шнур, делил на правильные отрезки; все детские эпизоды, связанные с плотничьими запасами отца, вернулись к Вальту из розариума детства, нагруженные розовым медом воспоминаний… Отбельщицы в широкополых шляпах, наклоняясь, поливали белые грядки льняных полотнищ, издали похожих на цветущие лилии. Из шляпы, которую одна девушка держала в руке за длинные ленты, Вальт перепорхнул к синим и желтым стеклянным шарам сада; и повсюду, где бы ни оказался, он покачивался, как в колыбели.
Теперь он добрался до длинной улицы – Розанской долины, – обрамленной горами, словно дворцами. Ключи от Эдемского сада ему вручили еще перед ней, и он ее отпер. «Здесь царит совершенная весна, этот Орфей Природы, сказал я себе (записывает Вальт в дневнике): луга цветут – калужницы разрослись большими скоплениями – маленькие дети, вооружившись большими граблями, пристраивают к большим стогам сена другие, маленькие, – сверху, из растущего на горах леса, доносятся дивные трели лесных жаворонков и дроздов – приятные весенние ветры продувают эту длинную долину – бабочки и комары наслаждаются своим детским балом, а ночной розариумный мотылек, как и золотая птичка, тихо сидит на земле, – листья вишневых деревьев переливчато-красны, много и красных плодов, но вместо бледных цветочных лепестков уже опадают на землю яркие листья – Солнце и весной, и осенью прядет на прялке Земли летучую пряжу облаков-поистине, это самая настоящая весна, какую мне редко когда доводилось наблюдать».
В вышнем эфире выплетались тончайшие кружева из серебряных цветов, а на много миль ниже под ними медленно тянулись одна за другой облачные горы; в синюю расселину между обеими полосами и полетел Вальт; там он с легкостью прогулялся по небесным путям, состоящим из ароматов, и, подняв глаза, заглянул еще выше. Но посматривал он и вниз, в родную долину: видел, как по ней скользит тихая гладкая река – как леса с любовью склоняются к воде с одной горы, а другая сверкает гроздьями винограда, домиками, где виноградари хранят свой инструмент, и грядками со спелыми овощами. Тут Вальт снова опустился вниз, в свою длинную долину, – словно на родительские колени.
«Как же красиво в этих колонных залах Природы, на зелени и среди зелени, когда звучит вечный аккомпанемент бесконечной жизни!» – громко пропел он, не заботясь о соблюдении хоть какого-то ритма, – и оглянулся, желая убедиться, что никто не подслушивает его поющий голос. «Налетайте же, красавицы-бабочки, и наслаждайтесь этой медовой неделей своего малого бытия – без голода, без жажды [27] – этой прекрасной солнечной жизнью – любовным бытием – ведь единственная камера вашего сердца есть не что иное, как вечный свадебный покой любви – наклоняйте цветы – позволяйте ветру нести вас – играйте в сияющей синеве – и расставайтесь с жизнью с едва заметным трепетом, как цветы».
Тут он увидел стайку умолкших соловьев, которые готовились к ночному отлету. «Куда вы летите, сладкие весенние звуки? Ищете ли вы мирт для любви, ищете ли лавр, чтобы петь? Томитесь ли по неувядаемым цветам и золотым звездам? Летите же прочь, не встречая бурь под нашими облаками, и воспевайте дальние, самые прекрасные земли, но потом возвращайтесь в нашу весну, исполненные любовного пыла, и самозабвенно пойте этому сердцу о тоске по божественным землям».
«Вы, деревья, и вы, цветы, что клонитесь то в одну, то в другую сторону и хотели бы стать еще более живыми, научиться говорить и летать: я люблю вас, как если бы сам был цветком и имел ветви; когда-нибудь вы все будете жить в вышних пределах». И он помог одной низко наклонившейся над рекой ветке чуть-чуть погрузиться в воду.
Внезапно он услышал очень далеко позади звук флейты, которая словно двигалась по долине вниз по течению реки, навстречу ветру. Даль – подходящий фон для флейты; и для Вальта, который лучше разбирался в самих звуках, нежели в их последовательности, ни одна близкая флейта, сколь бы хорошо она ни звучала, не была и вполовину такой желанной, как дальняя. Звуки, казалось, следовали за ним по пятам, но делались все слабее. У дороги стояла каменная скамья, которая в этой безлюдной местности изящно напомнила ему, что людям свойственно заботиться о других людях. Он немного посидел на ней, чтобы выразить свою благодарность. Но вскоре все-таки лег в высокую прибрежную траву, желая быть ближе к земле, которая для человека одновременно и стул, и стол, и кровать, – и старался поменьше двигаться, чтобы не спугнуть играющих в теплой и тихой прибрежной заводи рыбок-однодневок. Вальт любил не просто то или другое живое существо, а саму жизнь, любил даже не красивые виды, а вообще всё: облако и травяной лес, где живут золотые букашки, – и он раздвигал траву, чтобы полюбоваться на место их обитания, на их хлебные деревца и увеселительные садики. Ему было легче прервать работу за письменным столом, будь то записывание или сочинительство, – если по гладкой столешнице с трудом прокладывало себе путь пестрое хрупкое насекомое, – чем смахнуть прочь это создание, а уж тем более раздавить его. «Господи, как можно убить чью-то жизнь, – спрашивал он себя, – если ты пристально смотрел на нее – хотя бы, к примеру, полминуты?»
Он все еще слышал флейту, говорящую, как ему казалось, из сердца умолкшего соловья. Ее темное звучание словно вытягивало наружу жаркие капли радости из его глаз, переполненных сотнями возбуждающих впечатлений. Вдруг несколько крупных светлых капель из теплого летучего облака над ним упало на его ладонь – он долго рассматривал их, как ребенком всегда рассматривал дождевые капли, потому что они приходили с высокого и далекого священного неба. Солнце покалывало белую кожу ладони, будто хотело осушить ее поцелуем, – но он сам поцелуем вобрал в себя эти капли и с неизъяснимой любовью взглянул на теплое небо, как ребенок глядит на мать.
Сам он уже не пел, с тех пор как расслышал музыку и заплакал. В конце концов он поднялся и продолжил свое небесное странствие, но вдруг заметил на дороге таможенную расписку: она выпала из-за шнура на шляпе возчика, только что проехавшего в нескольких шагах от него. В надежде, что сам он, поскольку движется в том же направлении, возможно, еще встретит этого человека, Вальт поднял бумажный листок: ведь ничто, касающееся другого человека, не казалось ему малозначимым, как и ничто, касающееся его самого, не представлялось важным; и потому что штормовому ветру его поэзии легче было бы свернуть вершину горы, чем согнуть цветок. Если страсть взлетает вверх раскаленным вихрем, как горящий корабль: то нежное поэтическое искусство сердца может воспарить лишь как золотая голубка вечерней зари или как новый Христос, который возносится к небу именно потому, что не забывает земли.
Звуки флейты все еще текли вслед за Вальтом по изложнице речной долины, но не приближаясь, когда он останавливался, и не отставая, когда он снова пускался в путь.
Внезапно дорога вынырнула из долины и стала подниматься в гору. Флейта внизу сделалась неслышной, поскольку теперь, наверху, перед Вальтом широко раскинулась поверхность мира – тут же наполнившаяся бессчетными деревушками и белыми замками – опоясанная впитывающими воду горами и дугообразными лесными массивами. Он шел по горному хребту – как по арочному мосту над зеленеющей внизу, по обеим сторонам от него, поверхностью моря.
Он был совершенно один, знал, что никто его не услышит, и потому, не стесняясь, насвистывал фигурированные хоралы, фантазии, а под конец и просто старинные народные напевы – не делая даже коротких пауз, чтобы перевести дух. В отличие от всех других духовых инструментов, такая губная гармоника (как и настоящие, подобные ей) звучит романтично и сладостно даже с очень близкого расстояния – находясь меньше чем в полу футе от уха, – и в данном случае (как и в случае с музыкой, которую мы слышим во сне) человек является одновременно создателем музыкального инструмента, композитором и исполнителем, для чего ему совсем не нужен иной учитель, кроме, опять-таки, себя самого, собственного ученика.