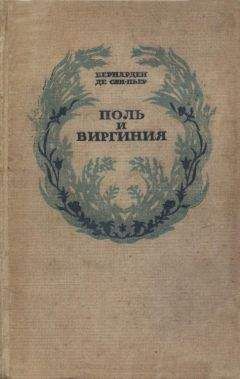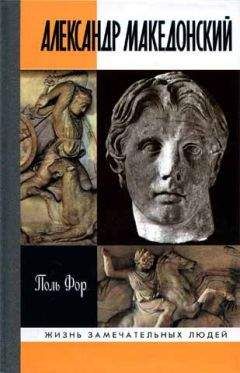Грубиянские годы: биография. Том I - Поль Жан
Поев, Вальт остановился перед распахнутой дверью в обеденную залу, чтобы, держа в руке найденную в волшебной долине таможенную квитанцию, дождаться того момента, когда он сможет ее вернуть, то есть когда начнут выходить по одному обедающие там возчики, к которым он боялся обратиться со своим вопросом, пока видел, как они сидят за столом in corpore. Вдруг один юный дерзкий возчик – мальчонка лет тринадцати в синей рубашке и плотном белом ночном колпаке – поднялся с места, подкрался к песочным часам трактирщика и незаметно перевернул их, чтобы в буквальном смысле (поскольку пока что вниз высыпалась только треть находящегося в часах песка) скоротать для этого человека время.
Однако нотариус, разозленный увиденным, подскочил и перевернул перевернутое: ибо не мог терпеть вероломную несправедливость, которую потерпел бы по отношению к себе, когда она обращалась против другого человека.
Возбуждение, вызванное этим происшествием, придало ему силы, чтобы перед всем table d'hote высоко поднять записку и крикнуть: мол, не потерял ли ее кто-нибудь. «Я, сударь», – сказал какой-то человек, протянул длинную руку, схватил записку и только один раз коротко кивнул (вместо того чтобы, как надеялся Вальт, горячо выразить свою благодарность).
На подоконнике Вальт увидел лежащую рядом с часами книжку для обучения письму, явно принадлежащую кому-то из детей хозяина, раскрытую на развороте с тремя строчками, каждой из которых было предпослано по слову: Gott – Walt – Harnisch. Он очень удивился и спросил хозяина, не носит ли тот фамилию Харниш. «Карнером меня звать», – проворчал трактирщик. Вальт показал ему книгу и объяснил, что его самого зовут точно так, как там написано. Трактирщик, со своей стороны, грубо спросил, уж не зовут ли гостя и так, как значится на предыдущей странице: Hammel – Knorren – Schwanz, – и так далее.
Тут нотариусу опять захотелось взять за неимением лошадей свои крылья и убраться отсюда подальше (предварительно расплатившись), однако его задержал и обрадовал нищий – тем, что захотел взыскать милостыню в виде натурального продукта и попросил угостить его стаканом пива: возможно, потому, что был тайным приверженцем учения физиократов. Поскольку нищий, чтобы инкассировать свой маленький натуральный доход, поставил нищенскую клюку в угол: нотариусу представилась возможность потрогать эту занозистую, тяжелую палку. Вальт поднял клюку и помахал ею – с особым чувством, что вот теперь он действительно держит в руках посох нищего, о котором так много всего слышал и читал.
Под конец – после того как он, со все более теплым чувством, порассуждал о том, что видит перед собой последнюю и самую тонкую мачту лишившегося мачт парусника чьей-то жизни, что эта сухая ветвь происходит отнюдь не от золотого рождественского древа, а от дуба плача, и что она представляет собой спицу из колеса Иксиона, – Вальт решил, что непременно выторгует у нищего (которого, конечно, сможет убедить в серьезности своих намерений только посредством денег) его клюку: единственное, чем сей бедолага еще владеет. «Эта палка, – сказал себе Вальт, – должна, подобно волшебной палочке, преобразить меня и – еще лучше, чем табакерка Лоренцо, – сделать милосердным: если когда-нибудь я захочу, из-за черствости сердца либо по рассеянности, пройти мимо беды своих ближних – она мне напомнит, какой потемневшей, и дряблой, и усталой была рука того, кто когда-то на нее опирался».
Так он говорил в назидание себе; этот мягкосердечный человек, в отличие от людей жестокосердных, упрекал себя в недостаточной мягкосердечности, тогда как те, наоборот, упрекают себя в противоположном. Вальт, конечно, не нуждался в подпорке для своих плодоносящих цветов; однако там, где такие подпорки-громоотводы вырастают в большом количестве сами по себе – на полях сражений или вокруг увеселительных замков четырнадцатых Людовиков (которые рождаются на свет, уже с первого момента имея зубы [30]), в тех местах, где тайные ступени к трону, да и сам этот трон, изготавливают из таких деревяшек-мучеников, в странах, где клюка нищего становится самой распространенной палкой, то бишь в буквальном смысле начинает воплощать палочный принцип государственного управления (что происходит, возможно, не без содействия военных), – там было бы желательно ввести закон, обязывающий каждого нищего указать в завещании, что после смерти его клюка должна поступить в специально учрежденный Государственный кабинет палочных изделий: потому что, по крайней мере, можно надеяться, что если в витрине рядом с любым жезлом главнокомандующего и любым королевским скипетром будет лежать такая клюка, она послужит своего рода стабилизирующей штангой – и даже, возможно, подобно жезлу Моисея, извлечет животворную влагу из твердой тронной скалы.
Нотариус покинул свой временный лагерь хотя и опираясь на изгнаннический посох, но в столь радостном настроении, какого только можно ожидать, если иметь в виду, что продавца этого самого посоха он поверг в изумление и заставил пролить слезы радости; а еще, и в первую очередь: что Вальт мысленно обозревал золотой урожай приключений, уже собранный им – всего за полдня. «В самом деле, мне повезло! – говорил он себе. – Уже в Хэрмлесберге мое имя известно и упоминается в устной речи – а в Грюнбрунне даже и в письменной – дивная флейта движется и останавливается вместе со мной – в мои руки попал чужой страннический посох… Боже, сколько же еще таких вещих знаков может явиться на протяжении долгой второй половины дня? Сотня чудес! Ведь часы сейчас пробили только полвторого». Сделав для себя такой вывод, Вальт поднял ликующие глаза к раскинувшемуся над ним синему небесному своду.
№ 42. Переливчатый шпат
Жизнь
В ближайшей реке он вымыл и нищенскую клюку, и руки, в которые принял ее от продавца, из деликатности ничем их не прикрыв. Первый акт благотворительности, который он совершил после покупки клюки, был осуществлен с помощью этой самой деревяшки по отношению к сплавной древесине. Вальт не мог смириться с тем, что если на середине реки множество бревен двигалось вниз по течению – весело и словно пританцовывая, – то другие, ничуть не хуже первых, попадали в какие-то бухточки у берега, скапливались там и оказывались на горе себе как бы заключенными в тюрьму; эти горемыки явно не заслужили, чтобы их заставляли сидеть на скамье ожидающих; а потому нотариус взял свою нищенскую клюку и, подталкивая некоторые прибившиеся к берегу бревна, страдавшие в непосредственной близости от него, помог им вновь выбраться на речную стремнину; ведь помочь всем бревнам – как и всем людям – не под силу ни одному смертному.
Потом он догнал маленького оборванного мальчишку, который шагал по дороге босиком, в красных плюшевых штанах – с бессчетными прорехами, – которые раньше принадлежали взрослому человеку, а для этого малыша стали одновременно кюлотами и чулками. У мальчугана не было при себе никаких вещей, кроме стеклянной баночки, из которой он непрерывно доставал какую-то мазь и смазывал ею свои больные, воспаленные веки. Вальт ласково расспросил малыша о его горестной истории. История сводилась к тому, что он сбежал от мачехи – потому что его отец, военный, еще прежде сбежал от нее – и теперь надеется, выпрашивая милостыню, добраться до французов. «Тебе пригодились бы гессенские гроши?» – спросил Вальт, вдруг со страхом обнаруживший, что у него остались в основном только крупные монеты. Мальчонка по-дурацки уставился на него, потом усмехнулся, будто услышал шутку, но ничего не сказал. Вальт показал ему один грош. «О, – сказал тот, – эти-то мне хорошо знакомы»; и прибавил, что отец часто посылал его разменять такую монету. В конце концов нотариус услышал, что мальчик и сам гессенец, – и отдал ему все гроши из его отечества.
Теперь мало-помалу клюка начала проявлять свою зловредную силу: она оказалась громоотводом, притягивающим к себе непогоду. Вальт уже не мог вернуть ту весну, которую видел до полудня, и вынужден был видеть перед собой осень, в такой же мере настраивающую человека на эпический лад, в какой весна – на лирический и романтический. Он посчитал себя вправе взвалить на палку вину за то, что, сколько ни смотрит на Лейпцигские горы, напрасно пытается мысленно перенестись на ту сторону, на Лейпцигские равнины, к Ваниной садовой калитке: потому что палка, как если бы она застряла под его горными санками, препятствует этому.