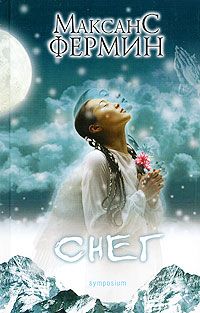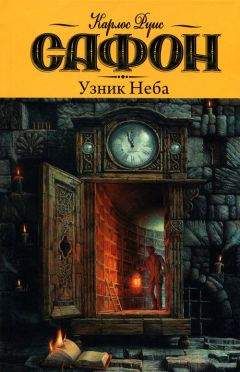Малькольм Лаури - У подножия вулкана
— ... темные очки и альпеншток. Тебе очень пойдет...
— ...все лицо намажу мазью. А шерстяную шапочку натяну до бровей...
Снова послышался голос Хью, ему ответила Ивонна, они одевались и громко переговаривались из кабинок, в каких-нибудь шести футах, за стеной:
— ... ты проголодалась, я думаю?
— ... две изюминки и половинку сливы!
— ... не забудь еще лимоны...
Консул допил мескаль; конечно, все это жалкая шутка, их намерение взобраться на Попо, хотя Хью вполне мог бы разузнать насчет подобных вещей еще до приезда сюда и пренебречь при этом всем остальным; но возможно ли, что мысль взобраться на вулкан вдруг уподобилась для них представлению о целой жизни вдвоем? Да, теперь он высится перед ними, там полно опасностей, ловушек, обманов, и на краткий, ничтожный миг, зыбкий и неверный, как дымок сигареты, им кажется, что это воплощение их судьбы.., или, увы, Ивонна просто-напросто сейчас счастлива?
— ... откуда двинем, из Амекамеки?..
— Чтобы предупредить горную болезнь.
— ...итак, предстоит целое паломничество! Мы с Джеффом давно туда собираемся, уже который год, Сперва верхом до Тламанкаса...
— ...за полночь в отеле «Фаусто»!
— Ну-с, чего вы желаете? Цветной капустки, старого хрена к холодному или горячему блуду? — Консул встретил их с невинным видом, словно не пил ни капли, и сразу помрачнел; он предчувствовал, что близится тайная вечеря, и старался не выдать голосом отчуждения, порожденного мескалем, разглядывая меню, которое подал ему Сервантес. — Или ягодичный экстракт? Онаны с отсебятиной в тютельку?..
— Перченые молоки? Или желаете натуральное кровяное филе по-уачинански с доброй немецкой приправой?
Сервантес вручил Хью и Ивонне по карточке, но они оба вместе читали ту, которую взяла Ивонна.
— Любительский докторский суп Мойзе фон Шмидтхауз, — произнесла Ивонна, с наслаждением выговаривая каждое слово.
— Я лично предпочитаю пикантную закусочку, — сказал консул. — Но сперва онаны.
— Хватит и одного, — поспешно добавил консул, обеспокоенный потому, что Хью смеялся слишком уж громко, а это могло задеть чувства Сервантеса, — и обратите внимание на добрую немецкую приправу. Ее добавляют даже к филе.
— А как насчет мяса с кровью? — спросил Хью.
— Тласкала! — Сервантес с улыбкой склонился к ним, играя карандашиком. — Si, я тласкалец. Вы ведь любите яйца, сеньора. Рубленые яйца. Muy sabrosos[189]. Яйца, разведенные в соусе? К рыбе, к филе с горошком. Взбитые яйца по-королевски. Или вы любите голые яйца в тесте? Бляманже из телячьих печенок? Сыр пармезан ядреный со слезой? Духовых цыплят, обделанных по-домашнему? Закуску с раками? Не потребно ли хреновой рыбки с кровью?
— Ага, тут, я вижу, все с кровью! — заметил Хью.
— Боюсь, что обделанные духовые цыплята не лучше, да?
— Ивонна смеялась, хотя двусмысленность выражений большей частью не дошла до нее, и консул чувствовал, что она еще не заметила его состояния.
— Этих цыплят, чего доброго, готовят в собственной протоплазме.
— Si, не угодно ли покушать каракатицу под чернильным соусом? Или тунца? Аппетитного крота? Или для начала возьмите отборную дыню? Желаете съесть фигу? Ассорти а ля сиятельный херцог? Мандраже из потрохов? Не угодно ли отведать джина с соленой рыбкой? Забористого джина? Моченой рыбки? Хереса?
— Мадре? — удивился консул. — Это еще откуда? Хочешь скушать свою мать, Ивонна?
— Бадре, сеньор. Тоже рыба. Из Яутепека. Muy sabroso. Желаете?
— Ну как, Хью, хватит у тебя терпения ловить рыбку в мутной воде?
— Мне бы пива.
— Cerveza, si[190], «Монтесума»? «Дос Экиc»? «Карта Бланка»?
Наконец решили заказать печеных устриц, яичницу, духовых цыплят, бобы и пиво. Консул поначалу спросил только креветок и бутерброд с котлетой, но уступил Ивонне, когда она сказала: «Милый, пожалуйста, возьми еще что-нибудь, я целую лошадь готова съесть». — И руки их встретились над столиком в мимолетном пожатии.
А потом, уже во второй раз за этот день, встретились их глаза, полные жажды, бесконечно жаждущие. И в ее глазах, словно прозревая насквозь, консул в этот миг увидел Гранаду, и поезд из Альхесираса, петляющий по равнинам Андалузии, уфф-так-так, уфф-тук-тук, и разъезженную пыльную дорогу с вокзала, старую арену и бар «Голливуд», при въезде в город, британское консульство и монастырь «Лос-Анхелес», а над монастырем отель «Вашингтон Ирвинг» («От меня не скроешься, я тебя вижу, Англия должна вернуться в Новую Англию, дабы обрести свои прежние ценности»!), где все так же ходит поезд номер семь; уже вечереет, лошади медленно везут роскошные экипажи по аллеям садов, через аркады, все выше в гору, мимо нищего, который неизменно играет здесь на гитаре с тремя струнами, выше, выше, где сплошь сады, сады, сады, выше, выше, к причудливому великолепию Альгамбры (нагонявшей на него скуку), мимо родника, где они встретились когда-то, к пансиону «Америка»; и еще выше, выше, теперь уже надо идти пешком к садам Хенералифа, а оттуда на вершину, к Мавританской гробнице; здесь они поклялись любить друг друга...
Консул опустил наконец глаза. Сколько выпито с тех пор бутылок? Сколько стаканов, сколько бутылок осушил он, чтобы забыться, с тех пор как остался один? И вдруг он увидел их, все эти бутылки, в них водка, анисовка, херес, «Королева Шотландии», и стаканы, вавилонское столпотворение — они устремились вверх, как в тот день устремлялся дым паровоза, воздвигались до небес, а потом рухнули, стаканы падали, подпрыгивая и разбиваясь, с высоты садов Хенералифа, бутылки разлетались вдребезги, опорто, красное, белое, перно, кислое столбовое, абсент, бутылки раскалывались, прыгали в разные стороны, бутылки со стуком сыпались на аллеи парков, закатывались под скамьи, под кровати, под кресла в кинематографе, прятались по шкафам в консульстве, бутылки кальвадоса ускользали из рук, трескались, брызгали осколками, громоздились в кучи на свалках, низвергались в моря, в Средиземное, в Карибское, в Каспийское, бутылки плыли по океану, по валам Атлантики, усеивая крутые вершины, словно трупы шотландских горцев — и теперь он видел, обонял их от первой до последней, — бутылки, бутылки, бутылки, стаканы, стаканы, стаканы, а в них пиво, «Дюбоние», «Фальстаф», водка, «Джонни Ускер», виски многолетней выдержки, канадское белое, аперитивы, настойки, крепкие, полукрепкие, французские, немецкие, скандинавские напитки, бутылки, бутылки, дивные бутылки с текилой и баклаги, баклаги, баклаги, целые миллионы, полные дивного мескаля... Консул сидел недвижно. Голос его совести звучал глухо сквозь шум воды. Голос этот звучал в грохоте и завываниях ветра, сотрясавшего деревянные стены, витал в грозовых тучах над деревьями, вторгался в окна, затмевая свет. Как же можно было надеяться вновь обрести себя, начать все сначала, если где-то там, наверное в которой-нибудь из этих потерявшихся или разбитых бутылок, в котором-нибудь из этих стаканов навеки исчез единственный ключ от тайника его души? Как же можно теперь вернуться назад, искать, шарить среди стеклянных осколков, под неотвратимыми стойками пивных, на океанском дне?
Остановись! Взгляни! Прислушайся! Способен ли ты сообразить хоть теперь, до какой степени ты пьян, или полупьян, или полутрезв? Ты был у сеньоры Грегорио, но выпил там никак не больше двух стаканчиков. Ну а раньше? Ох, лучше и не вспоминать! Зато потом, в автобусе, лишь хлебнул рому из бутылки, которую прихватил Хью, но на арене допил почти все, что оставалось. Тут-то он снова захмелел, но это был отвратительный хмель, еще хуже, чем на площади, хмель, от которого гаснет сознание и мутит, как во время морской болезни, ведь только для того, — только ли? — чтобы преодолеть этот хмель, он выпил тайком мескаля. Но теперь консул понял, что его расчеты на мескаль не оправдались. Странное дело, но опять наступило похмелье. Консул дошел до крайности, до катастрофы, но, право же, в этом было что-то прекрасное. Похмелье захлестывало его, как темные океанские волны захлестывают наконец обреченный корабль, гонимый бесчисленными ураганами, которые отшумели данным давно. И теперь нет особой нужды трезветь, как нет нужды пробуждаться, да, пробуждаться, теперь ни в чем нет нужды...
— Помнишь, Ивонна, утром мы переправлялись через реку, и на другом берегу была pulqueria, она называлась, кажется, «La Sepultura», там, у стены, сидел индеец, лицо он прикрыл шляпой, а рядом стоял его конь, привязанный к дереву, и на ляжке было клеймо с номером семь...
— ...и седельные сумки...
...Пещера Ветров, колыбель всех великих решений, маленькая Кифера, памятная с детства, неисчерпаемое книгохранилище, священный приют, обретаемый по дешевке или совсем безвозмездно, есть ли еще такое место на свете, где можно столь многое приять и в то же время отринуть? Консул очнулся вполне, но теперь он, очевидно, не сидел за столиком вместе с другими, хотя явственно слышал их голоса. Уборная была вся из серого камня и напоминала гробницу — даже сиденье было холодное, каменное. «Это мне по заслугам... Это моя судьба», — подумал консул. — Сервантес, — позвал он, и Сервантес, как ни странно, высунулся откуда-то из-за угла — дверей в этой каменной гробнице не было,— держа под мышкой своего бойцового петуха, который притворно старался вырваться и вдруг закудахтал: