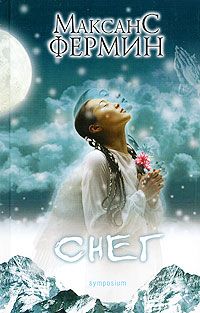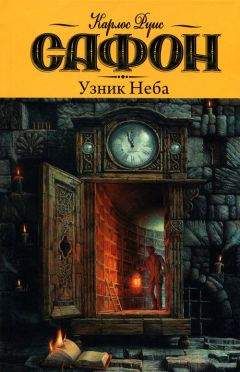Малькольм Лаури - У подножия вулкана
И вот, при свете звезд, пустынное кладбище, могильщик давно ушел, теперь он бредет, пьяный, через поля к себе домой — «ежели угодно, я могу выкопать могилу за три часа», — а на кладбище единственный фонарь, как луна, расплескивает туманные блики, под ногами высокая, густая трава, и обелиск возносится к небу, теряясь среди звезд Млечного Пути. «Джуль» — написано на памятнике. Но что же сказал начальник вокзала? Вокруг мертвецы. Ведь они спят? По какому праву им дано это, когда мы спать не можем? Mais tout dort, et l'аrmeе, et les vents, et Neptune[184]. И он благоговейно возложил увядшие васильки на заброшенную могилу... Это было в Оуквилле... Но Оахака или Оуквилл — какая разница? И какая разница между пивной, что открывается в четыре часа дня, и другой пивной, что открывается (кроме праздников) в четыре утра?.. «Я вам говорю истинную правду, один раз я за сотню долларов целиком выкопал из земли склеп и отправил в Кливленд!»
Тело будет доставлено экспрессом...
Источая алкоголь из всех пор своего тела, консул стоял в открытых дверях «Салона Офелии». Как разумно он поступил, когда заказал мескаль. Как разумно! При таких обстоятельствах это правильный, это единственный путь. И к тому же он не просто доказал себе, что нисколько не боится этого зелья, но теперь он поразительно бодр, поразительно трезв, готов ко всему, что ожидает его впереди. Если б только перед глазами у него не дрожало, не мельтешило беспрерывно, словно в воздухе роятся неисчислимые мухи, он мог бы подумать, что уже много месяцев назад бросил пить. Плохо лишь одно — ему нестерпимо жарко.
Водопад, сотворенный здесь природой, пополнял два отдельных водоема, верхний и нижний, но зрелище это не столько освежало консула, сколько создавало какое-то нелепое впечатление, будто земля систематически истекает потом; в нижнем водоеме и намеревались купаться Хью с Ивонной, но они что-то медлили. А верхний водоем весь бурлил, питая искусственные водопады, под ними струился быстрый поток, петлял по лесной чаще и скрывался из виду, падая вниз уже естественным каскадом, который был гораздо больше первого. А потом, вспомнилось консулу, поток этот мельчает до неузнаваемости и редкими струйками стекает в ущелье. Через лес, вдоль потока, проложена тропа, и где-то там, дальше, от нее ответвляется еще тропа, которая ведет направо, в Париан — и в «Маяк». Но и первая тропа ведет в такое место, где много всяких баров и пивных. Бог знает, почему это так. Вероятно, в те времена, когда вокруг были крупные усадьбы, Томалин кое-что значил, отсюда брали воду для орошения окрестных земель. Потом, когда сгорели плантации сахарного тростника, блестящие, далеко идущие замыслы создать здесь водный курорт были решительно отвергнуты. Со временем родились смутные, гордые мечты о постройке гидроэлектростанции, но сделано ничего не было. А Париан являет собой и вовсе непостижимую тайну. Он был основан горсткой воинственных предков Сервантеса, коварными тласкальцами, которые сумели превратить Мексику, поруганную и преданную, в великую страну, он именовался столицей штата, но после революции его совершенно затмил Куаунауак, и, хотя там доныне какой-то неведомый административный центр, никто не мог толком объяснить консулу, почему этот городок еще существует. Порой люди уезжали туда, ему случалось это видеть; и теперь он подумал о том, что лишь немногие вернулись назад. Они, конечно, еще вернутся, сказал он себе: должно же быть какое-то объяснение. Но по-чему автобус не ходит прямо туда, а только заезжает, как бы нехотя, делая бессмысленный крюк? Консул поежился.
Около него терпеливо стояли фотографы, прикрыв головы накидками. Они не отходили от своих потрепанных аппаратов, ждали купальщиков, которые переодевались в кабинках. Вот какие-то две девицы в старомодных, взятых напрокат купальниках с визгом приблизились к воде. Их кавалеры расхаживали по серой стенке, отделявшей озеро от верхних водопадов, и не решались прыгнуть, указывая в свое оправдание на трамплин без лестницы, который сиротливо торчал среди веток перечного дерева, словно какой-то обломок, занесенный туда наводнением. Наконец они побежали с воплями вниз по цементному спуску. Девицы захихикали, помялись, но то же вошли в озеро. Поверхность воды испуганно встрепенулась. На горизонте все выше громоздились багровые тучи, но небо над головой по-прежнему было ясное.
Появились Хью и Ивонна в нелепых купальных костюмах. Они стояли у озера и смеялись— оба вздрагивали, хотя косые лучи солнца еще палили вовсю.
Фотографы защелкали аппаратами.
— Глядите, — воскликнула Ивонна, — здесь мы как на водопадах Хорсшу в Уэльсе!
— Или на Ниагаре, — заметил консул, — в году эдак тысяча девятисотом. Не прогуляться ли нам по воде на «Туманной деве», семьдесят пять центов за билет, и каждому выдается плащ из клеенки?
Хью нерешительно повернулся к нему, прикрывая руками колени.
— Угм. За тридевять земель, где кончается радуга.
— К «Пещере Ветров», до ветру. На каскад «Мокрый Зад».
А в небе действительно сверкала радуга. Правда, и без шее мескаль (Ивонна, разумеется, не могла об этом знать) расцветил бы все вокруг волшебными красками. Волшебство создавал сам Ниагарский водопад, но не величие стихии, не город, где так часто проводят медовый месяц: то был сладостный, пьянящий и даже озорной дух любви, что витает над этими струями, рождая в сердце щемящую тоску. Но вот мескаль внес фальшивую ноту, а потом сразу множество заунывных фальшивых нот, и под эту музыку словно заплясали летучие туманы в зыбком, искристом свете, где мелькали осколки радуги. Это был призрачный танец душ, которые заплутались среди обманчивого мерцания, но все равно искали постоянства там, где все непрерывно ускользает, теряется навек. Или это был танец ищущего и его неведомой цели, когда он то устремляется в погоню за яркими огнями, не ведая, что они уже озаряют его, то жаждет единения с манящей красотой и, быть может, никогда не поймет, что давно с нею слился...
В пустом баре змеевидно залегли тени. Они набросились на консула.
— Otro mescalito. Un poquito[185].
Голос, казалось, раздался над стойкой, из темноты, где сверкали два злых желтоватых глаза. Потом стал виден красный гребень, бородка, золотисто-зеленые перья птицы, стоящей на стойке, а позади показался Сервантес и приветствовал его с игривым тласкальским добродушием.
— Мuу fuerte. Muy[186] уж-жасна! — прокудахтал он.
Неужели человек с таким лицом мог пустить под воду пятьсот кораблем и предать Христа и западном полушарии? Но птица оказалась вполне ручной. «Полпетуха четвертого», как сказал тот человек. И вот, пожалуйста, петух.
Это был бойцовый петух. Сервантес тренировал его для боев в Тласкале, но консула это не интересовало. Сервантесовы петушки всегда проигрывали — консул как-то раз спьяну посетил это зрелище в Куаутле; ужасные и ничтожные побоища, разжигаемые людьми, беспощадно жестокие, но при этом цинично ограничиваемые, всегда недолгие, как постыдная, разнузданная похоть, вызывали у него отвращение и скуку, Сервантес убрал петуха со стойки.
— Un bruto[187], — сказал он.
Приглушенный рев водопадов проникал в бар, словно где-то близко проплывал пароход... Вечность... Консул, освеженный прохладой, наклонился к стойке и созерцал второй стаканчик с бесцветной, попахивающей эфиром жидкостью. Выпить или не выпить?.. Но без мескаля, как представлялось ему, он забыл о вечности, забыл о том, что мир этот плывет по воле волн, что земля подобна кораблю, который застигнут штормом у мыса Горн и никогда уже не доберется до желанного берега. Или быть может, она подобна мячику, что летит над гигантским полем для гольфа, посланный рукой исступленного великана из окна сумасшедшего дома прямо в ад. Или автобусу, что кружной дорогой катится в Томалин и в небытие. Или же она подобна... там видно будет, чему она уподобится: в недолгом времени, после следующего стаканчика мескаля.
Но этот «следующий» стаканчик еще не был выпит. Консул встал, сжимая стаканчик, словно приросший к руне, вслушиваясь, припоминая... И вдруг сквозь шум водопадов до него донеслись звонкие, певучие голоса юных мексиканцев; и голос Ивонны, любимый до боли — и совсем иной после первого стаканчика мескаля, — голос женщины, которую ему вскоре суждено потерять.
Но почему он должен ее потерять?.. Теперь голоса как бы сливались воедино с ослепительным солнечным светом за распахнутой дверью, где алые цветы вдоль дорожки катились огненными мечами. Даже бездарный поэтический вымысел лучше, чем проза жизни, словно говорили ему неясные голоса теперь, когда он выпил еще полстаканчика. Но консулу слышался и другой шум, раздававшийся лишь у него в голове: впопыхах-ах. Экспресс из Америки мчит, сотрясаясь, везет труп через зеленые луга. Разве есть в человеке что-нибудь, кроме ничтожной души, которая поддерживает жизнь в трупе? Душа! Ах, можно ли сомневаться в том, что и ей не чужды свои воинст- венные, коварные тласкальцы, свой Кортес, свои noches tristes[188] и где-то в недоступной глубине свой печальный Монтесума в цепях, пьющий шоколад? Шум нарастал, прерывался и вновь нарастал; аккорды гитары вторгались в крикливую разноголосицу, голоса взывали, пели заунывно, как женщины в Кашмире, заклинали сквозь рев водоворота; «Borrraacho!» — вопили они. И темный бар со сверкающим прямоугольником двери ходил ходуном, раскачивая пол у него под ногами.