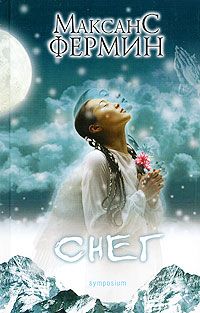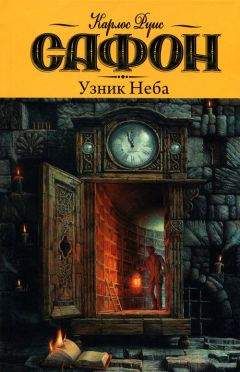Малькольм Лаури - У подножия вулкана
Хью нерешительно повернулся к нему, прикрывая руками колени.
— Угм. За тридевять земель, где кончается радуга.
— К «Пещере Ветров», до ветру. На каскад «Мокрый Зад».
А в небе действительно сверкала радуга. Правда, и без шее мескаль (Ивонна, разумеется, не могла об этом знать) расцветил бы все вокруг волшебными красками. Волшебство создавал сам Ниагарский водопад, но не величие стихии, не город, где так часто проводят медовый месяц: то был сладостный, пьянящий и даже озорной дух любви, что витает над этими струями, рождая в сердце щемящую тоску. Но вот мескаль внес фальшивую ноту, а потом сразу множество заунывных фальшивых нот, и под эту музыку словно заплясали летучие туманы в зыбком, искристом свете, где мелькали осколки радуги. Это был призрачный танец душ, которые заплутались среди обманчивого мерцания, но все равно искали постоянства там, где все непрерывно ускользает, теряется навек. Или это был танец ищущего и его неведомой цели, когда он то устремляется в погоню за яркими огнями, не ведая, что они уже озаряют его, то жаждет единения с манящей красотой и, быть может, никогда не поймет, что давно с нею слился...
В пустом баре змеевидно залегли тени. Они набросились на консула.
— Otro mescalito. Un poquito[185].
Голос, казалось, раздался над стойкой, из темноты, где сверкали два злых желтоватых глаза. Потом стал виден красный гребень, бородка, золотисто-зеленые перья птицы, стоящей на стойке, а позади показался Сервантес и приветствовал его с игривым тласкальским добродушием.
— Мuу fuerte. Muy[186] уж-жасна! — прокудахтал он.
Неужели человек с таким лицом мог пустить под воду пятьсот кораблем и предать Христа и западном полушарии? Но птица оказалась вполне ручной. «Полпетуха четвертого», как сказал тот человек. И вот, пожалуйста, петух.
Это был бойцовый петух. Сервантес тренировал его для боев в Тласкале, но консула это не интересовало. Сервантесовы петушки всегда проигрывали — консул как-то раз спьяну посетил это зрелище в Куаутле; ужасные и ничтожные побоища, разжигаемые людьми, беспощадно жестокие, но при этом цинично ограничиваемые, всегда недолгие, как постыдная, разнузданная похоть, вызывали у него отвращение и скуку, Сервантес убрал петуха со стойки.
— Un bruto[187], — сказал он.
Приглушенный рев водопадов проникал в бар, словно где-то близко проплывал пароход... Вечность... Консул, освеженный прохладой, наклонился к стойке и созерцал второй стаканчик с бесцветной, попахивающей эфиром жидкостью. Выпить или не выпить?.. Но без мескаля, как представлялось ему, он забыл о вечности, забыл о том, что мир этот плывет по воле волн, что земля подобна кораблю, который застигнут штормом у мыса Горн и никогда уже не доберется до желанного берега. Или быть может, она подобна мячику, что летит над гигантским полем для гольфа, посланный рукой исступленного великана из окна сумасшедшего дома прямо в ад. Или автобусу, что кружной дорогой катится в Томалин и в небытие. Или же она подобна... там видно будет, чему она уподобится: в недолгом времени, после следующего стаканчика мескаля.
Но этот «следующий» стаканчик еще не был выпит. Консул встал, сжимая стаканчик, словно приросший к руне, вслушиваясь, припоминая... И вдруг сквозь шум водопадов до него донеслись звонкие, певучие голоса юных мексиканцев; и голос Ивонны, любимый до боли — и совсем иной после первого стаканчика мескаля, — голос женщины, которую ему вскоре суждено потерять.
Но почему он должен ее потерять?.. Теперь голоса как бы сливались воедино с ослепительным солнечным светом за распахнутой дверью, где алые цветы вдоль дорожки катились огненными мечами. Даже бездарный поэтический вымысел лучше, чем проза жизни, словно говорили ему неясные голоса теперь, когда он выпил еще полстаканчика. Но консулу слышался и другой шум, раздававшийся лишь у него в голове: впопыхах-ах. Экспресс из Америки мчит, сотрясаясь, везет труп через зеленые луга. Разве есть в человеке что-нибудь, кроме ничтожной души, которая поддерживает жизнь в трупе? Душа! Ах, можно ли сомневаться в том, что и ей не чужды свои воинст- венные, коварные тласкальцы, свой Кортес, свои noches tristes[188] и где-то в недоступной глубине свой печальный Монтесума в цепях, пьющий шоколад? Шум нарастал, прерывался и вновь нарастал; аккорды гитары вторгались в крикливую разноголосицу, голоса взывали, пели заунывно, как женщины в Кашмире, заклинали сквозь рев водоворота; «Borrraacho!» — вопили они. И темный бар со сверкающим прямоугольником двери ходил ходуном, раскачивая пол у него под ногами.
— ...а что ты скажешь, Ивонна, если я предложу тебе как-нибудь залезть на этого малютку, я имею в виду Попо...
— Нет уж, бога ради! Неужели сегодняшней зарядки тебе мало еще...
— ...а для начала, чтобы натренировать мускулы, недурно бы забраться разок-другой на вершины помельче.
Они шутили. По консулу было не до шуток. Второй стаканчик москаля придал делу серьезный оборот. Этот недопитый стаканчик остался на стойке, а консул отошел в дальний угол, куда его поманил сеньор Сервантес.
Невзрачный человечек с черной повязкой на одном глазу, в черном пиджаке, но в нарядном сомбреро, откуда свешивались на спину длинные, яркие кисточки, хоть и был в душе дикарем, сейчас переживал нервное потрясение, пожалуй не менее глубокое, чем сам консул. Какое же скрытое притяжение влечет на его орбиту таких вот трепещущих, пропащих людей? Сервантес повел его за стойку, поднялся на две ступени, отдернул занавеску. Этот одинокий бедняк хотел еще раз показать ему свое жилище. Консул с трудом одолел ступени. Единственная тесная комнатка почти вся была занята громоздкой латунной кроватью. На стене висели ржавые ружья. В углу, перед маленькой фарфоровой статуэткой пресвятой девы, теплилась лампада. Это был поистине священный огонь, и свет его растекался сквозь рубиновое стекло по комнате, мерцал широким желтым кругом на потолке: фитилек был совсем короткий.
— Мистур. - Сервантес указал на лампаду дрожащей рукой: — Сеньйор. Мой дед наказывал мне, чтобы она всегда оставалась в неугасимости.
На глаза консула навернулись мескалевые слезы, он вспомнил, как минувшей ночью, среди пьяного угара, доктор Вихиль повел его на окраину Куаунауака, в церковь, которой он раньше не знал, там были мрачные стены со странной росписью, выполненной, вероятно, по обету, и в полутьме словно плыла милосердная пресвятая дева, которую он молил, ощущая в груди глухие удары сердца, сделать так, чтобы Ивонна вернулась к нему. Какие-то люди чернели вокруг, горестные и сиротливые, многие стояли на коленях — сюда приходили лишь скорбящие и одинокие. «Вот пресвятая дева, покровительница всякому, кто есть один как перст, — сказал доктор, склоняя голову. — И всякому моряку в плавании». Он преклонил колена на грязном полу, положил подле себя револьвер — доктор Вихиль никогда не ходил на балы в пользу Красного Креста без оружия — и сказал печально: «Никто сюда не шел, только тот, который есть один как перст». И теперь они молча стояли перед маленькой статуэткой пресвятой девы, и консул видел в ней ту, другую, что услышала его молитву, и снова взывал к ней. «Милость божия ниспослана мне, но все равно ничто не изменилось, я одинок, как прежде. Сколь ни бессмысленны мои страдания, я терзаюсь, как прежде. Жизнь мою нечем оправдать». Да, поистине это было так, но он хотел сказать совсем о другом. «Смилуйся, даруй Ивонне исполнение ее мечты — мечты? - о нашей новой совместной жизни, смилуйся, дай мне уверовать, что все это не гнусный самообман», — начал он снова... «Смилуйся, дай мне силы подарить ей счастье, избавь меня от этого самоистязания. Я пал низко. Дай же мне пасть еще ниже, дабы я узрел истину. Научи меня снова познать любовь, любовь к жизни». Нет, опять не то... «Где же обрести любовь? Ниспошли мне подлинное страдание. Верни мою былую чистоту, прозрение таинств, все, что я предал и потерял... Ниспошли мне подлинное одиночество, дабы я мог истово молиться. Дай нам обрести счастье, все равно где, только бы вместе, только бы не в этом, проклятом мире. Испепели мир!» — вскричал он в сердце своем. Глаза пресвятой девы были опущены, она посылала благословение, но, вероятно, неслышала... Консул даже не заметил, как Сервантес снял со стены ружье. «Люблю охоту». Повесив ружье на место, он выдвинул нижний ящик шкафа, притиснутого к стенке в другом углу. Ящик был битком набит книгами, среди которых оказалась «История Тласкалы» в десяти томах. Он тотчас снова задвинул ящик.
— Я маленький человек и не читаю этих книг, чтобы подтвердить свою малость, сказал он с гордостью. — Si, hombro, — продолжал он, когда они вернулись в Пар, - я вам уже говорил, я послушен своему деду. Он велел мне жениться на моей жене. И вот я называю свою жену матерью. — Он достал фотографию ребенка в гробу и положил на стойку. — Я пил целый день.