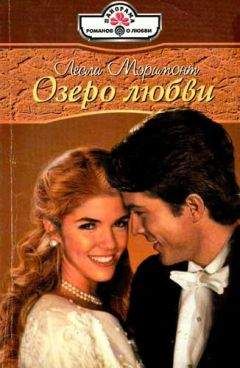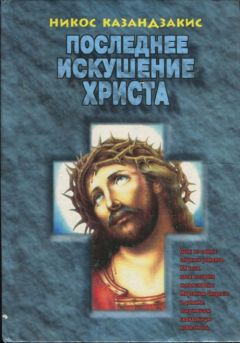Никос Казандзакис - Христа распинают вновь
Манольос поднял глаза, посмотрел на отца Фотиса, и ему показалось, что его бледное лицо светилось в ночной темноте, а его руки, поднятые к небесам, колебались, как пламя.
— И каждый человек может спасти мир? — взволнованно спросил Манольос. — Часто я думаю об этом, отче, и дрожу от этих мыслей. Значит, на нас лежит такая большая ответственность? Что же мы должны сделать до того, как умрем? По какому пути нам идти?
Он замолчал. Уже наступила ночь, старухи развели костры и готовили ужин, голодные детишки вертелись вокруг в ожидании еды.
Манольос тронул рукой колено отца Фотиса, который молчал, погрузившись в размышления.
— Как мы должны любить бога, отче? — спросил он.
— Люби людей, сын мой.
— А как мы должны любить людей?
— В трудах вести их по правильному пути.
— А какой путь правильный?
— Тот, который ведет ввысь.
ГЛАВА XIV
На следующий день к обеду возвратился в село из Измира ага. Не один. За ним, верхом на маленьком пегом коне, ехал новый турчонок. Это был дикий и сумрачный мальчишка, в котором уже проснулся инстинкт самца; он не жевал мастику, много ел и всегда был голоден, пил и всегда страдал от жажды. Этот турчонок не пел, что «жизнь — это сон», он только кричал и бранился, был капризен, командовал охваченным страстью агой и тот, заглядывая ему в глаза, исполнял все его просьбы. Звали турчонка Ибрагимчиком, было ему пятнадцать лет, над его полными губами уже рос пушок.
Ага нашел этого мальчика в одном грязном поселке, где у каждого дома висел красный фонарь. Мальчуган ходил с корзиной, в которой были перемешаны семечки, английские презервативы, жареные раки и жасмин. К вечеру из поселков в узкий переулок стекались толпы мужчин — стариков, молодых, евреев, мусульман, христиан, — чтобы хоть на время позабыть здесь о дневных заботах. У ворот их поджидали накрашенные, полуголые, бесстыдно улыбающиеся женщины.
Ага увидел Ибрагимчика, и тот сразу ему понравился. Ага подошел, немного поторговался, и сделка состоялась. Ага купил для мальчишки маленького пегого коня, новый костюм из дорогого сукна, серебряные часы с цепочкой, флакон духов и мешочек гвоздики, перемешанный с цветами корицы. Потом повел его в баню, искупал, и вода стала черной. Затем отправился к парикмахеру и приказал постричь мальчугана и надушить его одеколоном. И, наконец, сводил его к одному ходже, своему старому другу, человеку испорченному до мозга костей, чтобы тот научил турчонка некоторым «трудным» вещам.
Такого-то, чистенького и наряженного, Ибрагимчика ага вез теперь в свое царство.
Марфа встретила прибывшую парочку недовольным ворчанием, но, повнимательнее присмотревшись к новичку, радостно засмеялась: «Этот постреленок даст жизни аге…»
— Какие новости, Марфа? — спросил ага, едва переступил порог. — Кто умер в селе, кто женился, как прошли жатва и сбор винограда, живы ли еще старик Патриархеас и козлобородый поп Григорис? Не поссорились ли греки, не выкололи ли друг другу глаза? Мне кажется, что я целую вечность здесь не был.
И повернулся к Ибрагимчику.
— Вот это тетка Марфа, наша служанка, — сказал он. — Хорошая хозяйка, женщина неболтливая, честная… Немного горбата, но ничего, привыкнешь. Делай с ней что хочешь: бей ее, убей ее, можешь сесть на нее верхом, она — твоя!
Ибрагимчик засмеялся, схватился руками за горб старухи и покатился со смеху.
— Да на что она мне нужна? — сказал он. — Такой верблюд! Оставь себе свой подарок!
И вошел в дом, чтобы обосноваться в нем.
— Не брани его, Марфа, — сказал ага, — он еще необузданный жеребенок, брыкается, кусается… Не говори ничего, как и я не говорю. Терпи, несчастная Марфа, терпи, и все устроится.
Ибрагимчик вышел во двор.
— В твоем селе есть красивые женщины? — спросил он агу. — Как-нибудь заставишь их потанцевать, я посмотрю на них и выберу одну для себя.
Ага вздрогнул:
— Вот что я тебе скажу: хватит! Здесь все греки, у меня могут быть неприятности. Знай свое место!
— Пусть они посидят на моем месте! — ответил наглый жеребенок и громко заржал. — Эй, горбунья, накрой на стол, дай поесть, я голоден!
Ага тяжело вздохнул. Он вспомнил своего Юсуфчика… Тот тоже умел поговорить, но никогда не ругался. Ты ему скажешь: «Пой», — и он поет, ты ему скажешь: «Зажги мне трубку», — и он зажигает, скажешь: «Пойдем ляжем спать», — и он идет… А этот рогатый черт!.. Но все же хорош, паршивец!
— Ладно, Ибрагимчик, — сказал ага, — все у тебя будет, потерпи немного… Марфа, будь добра, зарежь курицу.
Ага и турчонок, основательно наевшись и хорошо выпив, закрылись в комнате. Мы не знаем, что там происходило, но к вечеру ага вышел из комнаты довольный, с опухшими глазами и очень усталый. Он позвал Марфу:
— Иди и передай Патриархеасу, пусть зайдет ко мне, мне с ним нужно поговорить. Ибрагимчик хочет посмотреть, как танцуют женщины. Почему бы нам и не исполнить его просьбу? Надень косынку и иди!
Около дома Патриархеаса бегали собаки. В самом доме Марфа застала полный разгром. Несколько работниц собирали остатки еды, мыли посуду, вытирали столы, убирали комнаты… Леньо уже отправилась с женихом в бывшую кошару Манольоса, и дом теперь оказался на попечении Мандаленьи. Она командовала женщинами, давала советы, приказывала им, складывала в свою котомку все, что успевала стащить либо тайком, либо на виду у всех. Время от времени она поднималась по большой каменной лестнице взглянуть на хозяина.
Сегодня старик архонт чувствовал себя совсем плохо. Ночью его хватил удар, у него отнялись правая рука и правая нога, лицо перекосилось.
— Ничего страшного нет, — говорила ему тетка Мандаленья, — ничего страшного. Не беспокойся, архонт, я натру тебе тело, и все пройдет… Это просто простуда…
Но старик архонт бесцельно уставился в одну точку. Изо рта текла слюна.
Как только Мандаленья заметила из окна, что во дворе появилась старая Марфа, она сразу же побежала ей навстречу и загородила дорогу. Она не любила Марфу.
— Чего ты хочешь, Марфа? Какое еще несчастье напало на наше село? Вернулся ага? Говори же, а то лопнет мое терпение!
— Потерпи, ты меня совсем оглушила, противная старуха! Мне нужно видеть архонта, это очень важно.
— Ты его не увидишь, нет! Тебе говорят, не увидишь! Он тяжело болен, у него отнялись нога и рука, он просит, чтобы сын пришел, у него был удар, он говорит неразборчиво, заикается, плачет. Нет, ты его не увидишь!
— Пусти меня, паршивая старуха, я хочу его увидеть собственными глазами и скажу об этом аге, чтоб он поверил!
— Не пущу!
— Нет, пустишь!
И они вцепились друг в друга. Прибежали работницы, разняли их. Горбунья успела подбежать к лестнице и, быстро-быстро перебирая ногами, как паук, поднялась наверх, открыла дверь и влезла в комнату. Старик архонт скосил глаза, увидел ее, но не шевельнулся.
— Архонт, — сказала старуха, — это я, Марфа. Большой тебе привет от аги. Он велит тебе прийти к нему, он хочет поговорить с тобой.
Старик повернул голову, губы его зашевелились, он что-то пробормотал, Марфа подошла поближе, но в эту минуту ворвалась разъяренная Мандаленья, оттолкнула ее и наклонилась над стариком.
— Что ты сказал, архонт?
Старик опять пошевелил перекошенными губами. Мандаленья повернулась к горбунье.
— Он говорит, чтобы ты убиралась к черту!
— Так что же мне передать аге, архонт? — настаивала горбунья.
Старик снова пошевелил губами, Мандаленья опять повернулась к Марфе.
— Чтоб и ага убирался к черту! Вот что он сказал!
Старуха покачала головой, подошла еще ближе, наклонилась к больному.
— Архонт, — сказала она тихо, — недоброе дело замыслил ага против нашего села. Он привез из Измира нового дьявола, который подожжет село. Этот проклятый хочет, чтобы собрались все девушки на площади и танцевали, а он выберет себе одну из них… Плохое время ты выбрал для болезни, архонт!
Старик вытаращил глаза, его лицо вспыхнуло, он напряг все свои силы и вдруг отчаянно закричал:
— Никогда!
И упал в изнеможении на подушку.
— Ты убьешь его, проклятая горбунья! Убирайся ко всем чертям! — завизжала Мандаленья, схватила Марфу за горб и вытолкала за дверь.
Потом вернулась в комнату и стала натирать старика маслом и камфарой. Ему стало немного легче, он открыл глаза.
— Пошли за попом Григорисом, пусть придет, — сказал он и снова закрыл глаза.
В это время отворилась дверь и вошел Михелис.
— Уйди, — сказал он старухе и приблизился к кровати.
Старуха собрала снадобья и исчезла.
Михелис стоял неподвижно и смотрел на отца глазами, полными слез. Лицо у старика было очень бледное; двойной подбородок опал, и кожа висела мешком, закрывая шею. Рот с правой стороны покривился, губа отвисла.