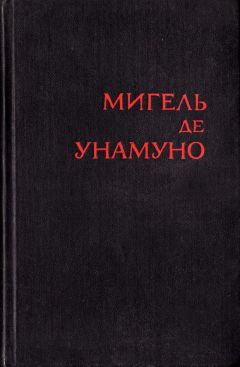Мигель де Унамуно - Мир среди войны
Счастливый недуг, который, милостью Божьей, он мог превращать в сокровенный источник утешения, поскольку боли, будучи не столь сильными, этому не препятствовали! Как дивно – препоручить себя Господу, с равным смирением принимая от Него добро и зло, услады и горечи, радости и печали, и за все возносить Ему хвалу! Нет, нет, он не заслужил такой благодати; подобный недуг был для него незаслуженным утешением.
Более всего изнуряла его, одновременно ободряя и отвлекая, внутренняя борьба со злокозненным врагом, ежечасно витавшим поблизости и подстерегавшим любую его оплошность. Случалось, ему приходила мысль о том, что он совершил какую-то ошибку; он тут же вспоминал, что не мы в грехе, а грех, верша смертоносную работу, обитает в нас, и дальше его размышления развивались примерно так: «Уж не пустое ли это сомнение, с помощью которого злой дух пытается отвлечь меня? Или, быть может, как раз он сам и внушает мне, что это не более чем сомнение?» – и наконец: «А может быть, и вообще все это – дьявольский соблазн?» И далее в том же роде. Как-то, постясь с целью умерщвления плоти и заметив, что умерщвление это доставляет ему сокровенное духовное наслаждение, он подумал, что, стало быть, для полноценного умерщвления ему следует отказаться от поста, тем самым лишив себя тайной отрады. Этот соблазн, в свою очередь, дал ему повод предаться упражнениям в покаянии, как то и подобало мужу, взыскующему внутреннего совершенства.
Действительно, внутренняя его жизнь была разнообразнейшей и никогда не могла ему наскучить. Все, относящееся к войне, что так занимало всех остальных, – что было оно по сравнению с сокровенной борьбой души… его души? Чем были, по сравнению с жестокой битвой, которую его душа вела за благодать, против искусителя рода человеческого, чем были все эти битвы, отчетами о которых пестрели газеты? Не успел он подумать это, как понял, что он не более чем персть, ничтожный червь, и предписал себе ряд актов покаяния, актов, составлявших непременный элемент увлекательнейших событий его душевной жизни.
Что касается племянника, идеи его уже больше не заставляли дона Хоакина тревожиться, поскольку, несмотря на них, Пачико оставался все таким же и его характер, его привычки, его настроения тоже оставались прежними. Нет, совершенно невозможно было, чтобы он мог так серьезно измениться, стать другим; ведь все это время племянник каждый день был у него на глазах. Неужели в жизни юноши произошло одно из тех ужасных событий, что, заставив Господа лишить несчастного своей благодати, полностью меняют весь ход его существования? «Это его дело! – говорил дон Хоакин про себя, прибавляя: – Каждый верит по-своему». И вот однажды, когда эта мысль вновь посетила его, с ним случился непочтительного свойства конфуз, что дало ему повод к раскаянию и явилось небывало новым в ряду происшествий его сокровенной, душевной жизни. А дело было в том, что, когда он в очередной раз подумал: «Каждый верит по-своему», – голос его разума как бы в издевку продолжил эту мысль: «…по-своему и блох давит». «Какое попустительство, какое легкомыслие! Сколько еще нужно мне над собой работать!» – подумал он, решив провести все ближайшее время, упражняясь в покаянии.
Ах, как слепы, как упрямо слепы те, кто не видит, как неиссякаемо интересна жизнь души, целиком отдавшейся заботам о своем здоровье! Что знали о его тайных восторгах, о неиссякаемой новизне его внутренней жизни люди мирские, суетные, считающие его человеком ограниченным, скучным, глуповатым? Пусть, пусть считают его простофилей, даже дураком – он принимает это унижение, чтобы однажды возвеличиться и превознестись. Но… Разве не гордыня заставляла его унижаться, чтобы превознестись, в расчете на превознесение; разве не она толкала его стать одним из последних, в надежде оказаться одним из первых? Ах! Святая простота! Святая простота, недосягаемая для тех, кто ищет ее рассудком!
Дядя и племянник жили рядом, непроницаемые друг для друга, не имея ни малейшего представления о том, каким видится каждый из них другому, жили, однако, связанные узами бесчисленных привычек, тонкими нитями долгого совместного житья. Дядюшка не мог спокойно предаваться долгим ночным молитвам, если не был уверен, что племянник сидит у себя, погруженный в привычное чтение; в то же время и племянник не мог с головой уйти в книгу, если подсознание его не улавливало тишайший шепот молитвы, которую вполголоса читал у себя в комнате дядя, полагая в молитве обрести желанную простоту.
Часто, чтобы скоротать время, Пачико ходил обедать в грязный ресторанчик, наполовину казино, где местные бездельники собирались сыграть партийку-другую на кофе и посудачить о военных новостях, узнанных из газет.
У каждого из завсегдатаев ресторации был свой, совершенно неповторимый характер, который невозможно было спутать с характером соседа, и Пачико забавлялся, наблюдая за их непосредственными проявлениями, слушая их бесконечные картежные перепалки. Сражения за карточным столом давали им духовную пищу и позволяли каждому проявить себя в полной мере. Частенько из-за какого-нибудь хода вдруг вспыхивала яростная ссора, слышалась отчаянная брань, но вот карты перетасовывались и игра продолжалась.
В другой раз они спорили о ходе кампании, тасуя сводки о передвижениях колонн, причем споры эти ничем не отличались от споров, вызванных тем или иным поворотом игры. Подолгу длились споры о том, сколько лиг от Соморростро до Бильбао, три или пять, сколько, два или четыре месяца, продержатся карлисты.
Пачико нравились эти свободные и живые – и еще какие живые! – споры между живыми же людьми из плоти и крови, вкладывающими душу в каждое слово, и, напротив, какими несносными и нудными казались ему газетные отчеты, узнать из которых можно было ничуть не больше, чем из споров в ресторанчике. Чего стоил хотя бы один славный капитан в отставке, когда он торжественно извлекал из кармана неизменную и неразменную золотую унцию, восклицая: «Все это одни разговоры!.. Ставлю десять дуро, что они и месяца не протянут!.. Мне ли не знать эту местность!..»
В сравнении с этими спорами газетные статьи были не более чем легковесными репортажами, беспорядочно-утомительной россыпью фактов, в лучшем случае – выжимками истории. «Что вообще останется от всей этой войны? – думал Пачико. – Сухие сведения, пара строк в будущих исторических трудах, беглое упоминание в ряду множества других гражданских войн, чью суть унесут с собой в могилу ее действующие лица. Не является ли эта война всего лишь одним из звеньев в жизни испанского народа, звеном, сокровенное назначение которого состоит в том, чтобы сохранить непрерывность истории?»
Когда ему наскучивало казино, Пачико отправлялся бродить по окрестностям городка, без какой-либо определенной цели, то идя полустертой тропинкой, то прямо через поле, отыскивая новые, незнакомые ему уголки; его интересовали все подробности постоянно меняющегося пейзажа: неожиданно открывшееся за поворотом дерево, неприметная тенистая лощинка, незнакомый прежде хутор; все это интересовало его так же, как посетителей казино – каждое новое сочетание карт в хитросплетении игры, а его дядю – строгое чередование его молитв и разнообразные эпизоды борьбы его души с бесом. Все было ново и все было старо в постоянном изменении, скрывающем извечную неизменность вещей!
Во время этих прогулок Пачико любил подниматься на возвышенность, откуда было видно море; взгляд его тонул в безграничности тихих вод, смыкающихся с небом у плавной черты горизонта. Море и небо сливались перед ним в величественное единство, взаимооживляя друг друга; волна с шумом катилась вслед волне, безмолвно плыли одно за другим облака. Вид безграничной зыбкой равнины наводил его на смутно угадываемую мысль о некоей жизни в чистом виде, жизни безымянной, большей, чем самое жизнь, и необычное ощущение того, что мимолетное мгновение настоящего застывает, останавливается, охватывало его. Колыхания уходящего ввысь и вдаль пространства представлялись ему дыханием спящей Природы, погруженной в глубокий, без сновидений сон. Иногда, когда между небом и морем проносился, вздымая волны и разгоняя облака, мощный порыв ветра, он вспоминал о Духе Божием, что носился над водами, и ему казалось, что с минуты на минуту ему явится величественная, святая тень Всемогущего Старца, каким Его изображают в алтарях, – возлежащим на облацех, в широком, плавными складками ниспадающем одеянии, созидающим новые миры, восстающие из покорных вод.
Затем, уйдя в себя, он вспоминал те битвы идей, что разыгрывались в его уме в ту пору, когда его сознание переживало кризис. Превратившиеся в однообразные, упорядоченные формулы; оторванные от своего родного мира, мира, в котором они родились; выстроенные в колонны диалектических мотиваций; подчиненные строгой тактической логике и ведомые рассудком, идеи развернули в его уме настоящую войну, с битвами, маршами и контрмаршами, стычками и засадами. И никогда дело у них не доходило до прямого, открытого столкновения: по мере того как одни из них приобретали все более отчетливые и ясные очертания, другие таяли, оставляя позиции, немедленно занимаемые противником. А иногда полки старых и, казалось бы, наполовину разбитых идей вновь собирались с силами и бросались в яростную атаку.