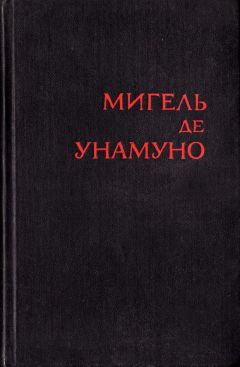Мигель де Унамуно - Мир среди войны
Погожим вечером он иногда ненадолго выходил на балкон. Сумерки придавали пейзажу однородность, он словно загустевал большими темными пятнами, среди которых светился вдали огонек какого-нибудь хутора, сквозь наступающую тьму возвещая о затерянном в горах очаге. Привыкнув к неумолчному журчанью ручья, Педро Антонио переставал замечать его, и журчание это, подобно голосу самой тишины, глубинной мелодией звучало в его душе, и однообразное ее течение увлекало за собой смутные образы его фантазии.
Неспешно текущие часы размечал густой звон церковного колокола, широко разносившийся и гаснувший в безмятежной тишине полей. На заре, ясный и свежий, словно бы сам собой возникавший из воздуха, он развеивал туман ленивой утренней дремы; в полдень, возглашая время отдыха, звон, торжественный и полнозвучный, казалось, нисходил с небес; затем, в тот час, когда свет мешается с тенью, а вершины гор отчетливо вырисовываются на стынущем мраморном небе, приглушенный, словно шепчущий, он возносился ввысь, как голос усталой земли; и наконец, трепетно дрожа в сумерках, звал семьи, уже собравшиеся вокруг своих очагов, молитвой почтить души умерших, тех, кто, покоясь в земле, был неотторжим от семейного лона. Казалось бы всегда одинаковый, колокольный звон звучал по-разному в разное время дня.
В часы одиноких прогулок Педро Антонио любил заходить на хутор, откуда видна была вся лежавшая внизу долина; ему нравилось беседовать с хозяином, немощным стариком, который, сидя на разваливающемся стуле, пристраивался где-нибудь на солнышке, за домом, и неторопливо лущил кукурузу или чистил картошку, чтобы показать, что и он еще кое на что годится. Брошенный домашними, смотревшими на него как на обузу, он с радостью встречал Педро Антонио и заводил с ним разговор о сыне:
– Никогда не забуду, как приезжал он к нам в деревню в последний раз… красавчик! Да и вас я тоже совсем еще мальчуганом помню… мне-то ведь уж за четыре дуро перевалило… oarleko laur bano gueizago… – добавлял он, намекая на то, что живет уже девятый десяток.
– А почему вы обращаетесь ко мне на «berori»? – спрашивал его Педро Антонио, сам по-баскски обращаясь к нему на «zu», среднем между панибратским и малоупотребимым «eu» и почтительным «berori».
– Вы богатый, господин.
Кондитеру нравилось слушать, как под конец разговора бедный старик, всякий раз прежде оглянувшись по сторонам, начинал вполголоса жаловаться на то, как ведут себя с ним дети, совсем про него позабывшие, и если бы не маленькая внучка… «Дети! Дети – они сами по себе… так уж жизнь устроена… Тяжело бедным людям о своих-то заботиться… Дети!» – восклицал он, вспоминая и о том, как сам он обходился со своими старыми родителями. И под конец всегда просил у Бога одного: восемь дней на смерть – zortzi egunen iltze, – считая, что этого как раз достаточно, чтобы приготовить свою душу и не слишком обременять детей долгой болезнью.
«Дети!» – бормотал, уходя, Педро Антонио, после разговоров со стариком чувствовавший в голове ужасную путаницу. И бессвязные и расплывчатые его мысли всегда кончались одним: «Восемь дней на смерть!»
Отступление из Соморростро так угнетающе подействовало на войско, что дону Карлосу пришлось пообещать: скоро Бильбао будет взят и войска его, победно шествуя от Веры до Кадиса, будут незамедлительно и повсеместно противостоять революции и безбожию. Но и в эти дни он сохранил пристрастие к балам, что свойственно любому добропорядочному монарху. Хунта между тем обещала ему победить или умереть; наставляя добровольцев с кафедры, им внушали магическое «вопреки!», старательно скрывая провал знаменитого займа и долгожданного обострения войны между новым и старым, не упоминая, что Кабрера отвернулся от претендента.
«Бедняга Игнасио! – думал Хуан Хосе. – Надо же было погибнуть перед самой победой!.. Эх, поторопился! Еще немного, и мы вместе вошли бы в Бильбао». Как никогда полный надежд, он считал, что, предприняв отчаянное усилие в Соморростро, враг вконец истощил свои силы и что они, карлисты, напротив, сохранили порыв и желание драться. В конце концов, победа достается тому, кто умеет выжидать; два-три метких удара, когда противник уже выдохся, – и дело решено!
Войска сошлись у стен святыни карлизма, Эстельи, куда освободитель Бильбао направился, чтобы окончательно уничтожить врага. Главнокомандующий карлистов, Доррегарай, преемник старого Элио, говорил о бессмысленной жестокости солдат неприятеля; либералы твердили о том, что яростные вопли врага не что иное, как свидетельство его бессилия. Обе стороны копили взаимную злобу, как мальчишки, подзадоривающие друг друга, прежде чем броситься на противника с кулаками. Двадцать пятого июня произошла первая стычка; двадцать шестого обрушившийся на либералов ливень вымочил солдат до нитки; голодные, они ели картошку, которую выкапывали на хуторских полях, и поджигали деревушки, чтобы согреться и высушить одежду у огня; двадцать седьмого артиллерия либералов заставила карлистов оттянуть свои силы. Дело уже готово было дойти до рукопашной, но пришлось пережидать непогоду – бурю с ливнем, обрушившуюся на оба войска, – и затем, когда в решающий момент главнокомандующий либералов, Конча, выехал на передовую, чтобы обратиться к своим солдатам, то был неожиданно убит. Таково было отмщение за Соморростро, за смерть полководца Ольо, храбреца Радики, отважного старика Андечаги. Победители, в мстительном порыве, добивали раненых, которых отступавший противник оставлял на опустошенных непогодой и людьми полях; на балконе одного из хуторов, как трофей, вывесили окровавленную простыню, в которую было завернуто тело Кончи; тридцатого жители разрушенной Абарсусы молили своего Короля о смерти пленных, каждый десятый из которых, всего двадцать один человек, был расстрелян на пожарище, под проклятия разоренных пришельцами крестьян. Несколько дней спустя жена Претендента, недавно прибывшая в Испанию, произвела смотр войск в отрогах Монтехурры – свидетеля победы.
Среди карлистов пронеслось мощное дуновение надежды; еще не успев в полной мере насладиться своим успехом – освобождением Бильбао, – враг уже потерял свою главную гордость – своего предводителя. Через неполных два месяца после отступления из Соморростро карлисты успели вновь собрать силы и победить. Пусть видят теперь все либералы, что значит войско, ведомое верой! Что может быть лучшим доказательством жизнеспособности, чем способность разбитого войска вновь собирать свои силы? Слитно марширующие, похожие на огромные реки, колонны – это было хорошо на равнине; но их войско, войско добровольцев гор, текло по извилистому руслу, мало-помалу подтачивая попадающиеся на пути скалы.
Хуан Хосе уже видел себя в Бильбао и сгорал от нетерпения, потому что начальство медлило, тогда как именно сейчас, одним разом можно было добиться успеха.
Педро Антонио услышал рассказ о победе, изукрашенный различнейшими домыслами, оказавшись в Гернике как раз восьмого июля, в тот самый день, когда в город въезжали пушки, выгруженные с корабля здесь же, поблизости. Полгорода высыпало на улицы; взбудораженные славной победой под Эстельей, люди воображали, что Бильбао уже взят, что дон Карлос – на троне, фуэросы закреплены монаршей волей, либералы низвержены и мир воцарился на их земле под прикрытием пушек, которые въезжали в город, украшенные зеленью, под восторженные крики мальчишек, забиравшихся на деревья, чтобы лучше разглядеть шествие. Люди обнимали стволы пушек; какая-то старуха пыталась пробиться сквозь толпу, чтобы приложиться, как к священной реликвии, к сияющей на солнце бронзе. Казалось, по улицам, как в праздник Тела Господня, несут Святое причастие; казалось, город празднует конец свирепой эпидемии.
Когда Педро Антонио почувствовал на себе взгляд зияющих чернотой жерл, медленный ход точившей его мысли на мгновение ускорился и боль встрепенулась в душе, но, не в силах порвать сковывающие ее путы, вновь потекла своим неспешным чередом, воскрешая в душе смутный, расплывчатый образ сына.
Собравшись за чашкой кофе, жители деревни обсуждали новости и строили планы, исходя из газетных статей.
– Разбрасываются по мелочам! – восклицал местный хирург. – Сдались им эти Бильбао и Эстелья! Играют в прятки по горам, а куда лучше было бы – прямехонько на Мадрид, а они пусть остаются в этих провинциях, если уж им так хочется. Поразить их в самое сердце!..
– И в прошлую войну все бредили тем же, – возражал Педро Антонио, – сами знаете, к чему привели все эти хваленые экспедиции…
– Ну, сейчас не то, что тогда… Одни отсюда навалятся, другие – из Каталонии, третьи – из Кастилии, и – прощай Мадрид!
– Ну что ж! – восклицал дон Эметерио. – Представь, что мы в Мадриде; что мы делать-то там будем?
– Как что делать?
– Да – что?
– Но, дружище… что за вопросы!
– А вот ты поди ответь… Главное, скажу я тебе, здесь на своем настоять, а что потом будет – это пока не наша забота. Здесь, здесь, в наших горах…