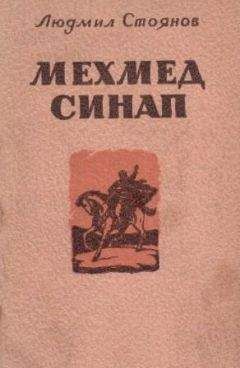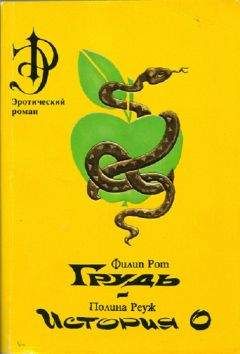Людмил Стоянов - Избранная проза
— Да, пустяки…
Сзади нетерпеливо напирают:
— Идите как следует или выходите из рядов.
— Ну, ну, поосторожнее…
На площади перед Народным собранием уже произносят речи. Но эти люди совсем из другого теста. Они не молятся за упокой души героев — они призывают к ответу. Ответу за жизни тысяч юношей, брошенных в пасть чудовища, за жизни сыновей народа, погибших в угоду безумным правителям, из-за тщеславия вздорной коронованной главы…
Оратор говорит о преступном безумии тех, кто вверг болгарский народ в новое, черное рабство, кто унизил его — и во имя чего? Из-за угодничества перед сильными мира сего, из-за лакейского рвения к чинам и орденам…
— Долой! — бушует площадь, и соседние улицы эхом отзываются ей.
К горлу подкатывает комок, на глазах выступают слезы. Бай Марин и бай Стоян — эти кроткие агнцы — наверное, еще не вернулись в свои селения; все еще сидят в каком-нибудь замшелом окопе, крестятся и целуют крошащийся кукурузный хлеб.
— Слушай, — настаивают мои товарищи, — сказал бы тоже несколько слов!
— Да бросьте вы, не нужно, что я могу сказать?
Чьи-то сильные руки поднимают меня над толпой.
Я отчаянно сопротивляюсь.
Сотни глаз устремлены на меня.
Раздаются голоса:
— Пусть скажет, пусть скажет, ведь он с фронта — он лучше других знает!
Но что я, в самом деле, могу сказать?
— У меня нет голоса, — оправдываюсь я перед стоящими рядом, — холера отняла у меня голос, осколки гранат обескровили меня… Тысячи и тысячи наших братьев лежат там… бессмысленно убитые. Война — враг народа, — вот урок, вынесенный каждым солдатом. Нужно, чтобы все…
Качнувшись, я почти теряю сознание, повисаю на плечах товарищей и сползаю вниз.
Шум толпы едва достигает моего слуха. Он похож на смутный ропот, на скрип обозных телег или затихающую артиллерийскую канонаду. Откуда-то издалека доносится до меня голос человека, произносящего речь с пьедестала памятника Царю-освободителю. Я вижу блеск его глаз, его смуглое крестьянское лицо, большие руки с растопыренными крупными пальцами. Он говорит сущую правду:
— Если бы в этой несчастной стране существовали правда и законность, то за преступное безумие шестнадцатого июня, когда Болгария объявила войну своим бывшим союзникам, царь Фердинанд должен был бы болтаться на перекладине, и именно здесь — напротив этого священного здания.
1935 г. Перевод К. Бучинской и К. Найдова-ЖелезоваДетство
Поздравляю Вас… с благополучным прибытием из Турции чуждой в Турцию родную.
А. С. Пушкин — С. И. ТургеневуПервая глава
Переселение
Мы все едем и едем, а горелому лесу и конца не видно. Равномерное колыхание лошадиной спины убаюкивает меня. Но лошадь прядает ушами, потряхивает гривой, громко фыркает, обмахивается хвостом, и это мешает мне заснуть. Время от времени я прячу лицо на груди у матери, однако мать уже не успокаивает меня больше, зная, что я притерпелся. Порой чувствую — вот лошадь высоко поднимает ногу, чтобы перешагнуть через упавшее поперек пути обугленное дерево, затем снова шагает ровно и уверенно.
Дорогу часто преграждают черные, беспорядочно рухнувшие друг на друга деревья. Тогда мать останавливает коня и ждет, чтобы дядя Вангел отыскал, где удобнее двигаться дальше. Мы объезжаем закопченные стволы, пересекаем вброд быстро несущиеся с гор пенистые потоки, пока не выбираемся на ровную дорогу.
Отчего же сгорел лес? Этот вопрос гвоздем засел в моем детском мозгу. Я спрашиваю мать, но та молчит. Занятая собственными мыслями, она только ближе прижимает меня к себе, хотя я и сам крепко держусь за седло. Моя мать по природе своей молчалива, а ночью я не раз слышал ее глубокие, словно исторгнутые со дна души вздохи. Ее худощавое, задумчивое лицо бледно и печально. Когда, обернувшись, я смотрю ей в глаза, то как будто вижу в них небо. Она меня научила слушаться ее во всем и во всем ей подчиняться. А потому я уже не завожу разговора про этот черный выгоревший лес. Он же, изглоданный огнем, поваленный наземь, страшен. Мне душно от копоти, от запаха живой горелой плоти. Огромные деревья лежат поверженные, словно воины древних времен после кровопролитной битвы. Иногда мы проезжаем под широкой аркой из нескольких обгорелых сосен с еще зелеными вершинами, сцепившимися при падении, да так и застывшими в неподвижном безмолвном ожидании.
На языке у меня вертится все тот же вопрос: отчего он загорелся?
— Ну, откуда мне знать? Может быть, пастухи подожгли.
— А зачем они его подожгли?
— Ну вот! Тебе лучше ничего и не говорить. Потом не остановишься. Молчи. — Она легонько погладила меня по голове: — …А может, и турки…
Солнце крадучись подползает к западу, как будто заново поджигает черные обгорелые стволы, и мне чудится — они начинают дымиться… Нет конца сожженному лесу. А солнце на закате. Вот это-то, может быть, и тревожит мою мать.
Турки… Не оттого ли ей так не хочется назвать турок поджигателями леса, что мы все еще в их власти. Разве забудешь ту страшную ночь перед отъездом… Лаяли собаки, трещали ружья… Из окон, с балконов стреляли наши… Голосили женщины… Метались какие-то тени с зажженными факелами. Мать с дедушкой переговаривались шепотом, а я слушал их и дрожал… Там льют кипящее масло в уши старого Наума Джерова, допытываясь, где у него спрятано золото… Разводят огонь в печи, чтобы бросить туда старуху Джеровицу — ведь она знает тайны этого богатого торговца. Вот почему мы бежим от них, от турок.
Мать, словно прочитав мои мысли, останавливает коня и ждет дядю Вангела, который сопровождает остальных трех лошадей, навьюченных домашним скарбом. Они тяжело дышат, отфыркиваются и с большим усилием тащат свои вьюки.
Дядя Вангел — низенький, кряжистый, у него красное загорелое лицо, черные с блеском волосы и черные же брови и усы. Он нисколько не похож на мою мать. Она — белокурая с голубыми, по временам зеленоватыми глазами и темными веками. На ее губах редко мелькает улыбка, а тот улыбается на каждое слово, его черные, как черника, глазки уходят в щелки, а белые зубы сверкают.
Все лес и лес. Иногда попадается участок, не тронутый пожаром. Здесь пахнет соснами и смолой, затем мы опять въезжаем в пожарище. Огонь обошел стороной то место и тут снова вышел на нашу дорогу.
Поравнявшись с нами, дядя Вангел вытер рукавом пот со лба, заткнул травой колокольчики на лошадях, бросил им два-три ласковых слова и замолчал. Он знает — Ташбоаз место опасное, логово разбойников, и его надо проехать быстро и незаметно.
Трогаемся дальше.
— Эй, Цыган, держись, а то палкой…
Это голос дедушки Продана. Он идет позади. За плечами у него ружье, за поясом пистолет. Дедушка Продан — старый гайдук, был в ссылке на острове Родосе. Его хорошо знают турки; ведь это опытный медвежатник, оттого-то ему и позволили носить оружие.
Молчит и он. Снял феску, идет неторопливым, ровным шагом, потупив глаза. Его большая седая голова с красной, обожженной солнцем шеей, прямым широким носом, седеющими, небрежно повисшими усами и квадратным подбородком крепко держится на могучих плечах, покрытых поношенной безрукавкой.
Над нами — орлы. Спешат к своим гнездам. Через листву деревьев процеживаются озера синего неба. Над дальними вершинами плывет небольшое, понемногу бледнеющее розовое облачко.
Мурлыча песенку, дедушка Продан догоняет нас. Его широкое лицо и улыбка внушают доверие. Спрошу-ка я его. Он все знает и все может. Такой большой, сильный — с медведями боролся!
Дедушка надевает феску. Увидав это, я быстро сдергиваю ее за кисточку. Он смотрит на меня удивленно, потом смеется:
— Ты что, парень? Отдай мой колпак, а то я голову простужу.
Он идет совсем рядом с лошадью, и я вдруг решаюсь.
— Дедушка, кто поджег лес? — быстро спрашиваю я и надеваю на него феску.
— Опять! — смеется мать, и от этого смеха дедушка добреет. — Сто раз меня спрашивал про тот проклятый лес.
— Кто его поджег, говоришь? — размышляет дедушка Продан, как будто подобный вопрос до сих пор нисколько его не занимал. — Наши, наверно, освобождают землю под пашню. Ясно? Эй, Вангел! Поторапливайся! Время идет!
Дядя Вангел пригоршнями пьет из ручья, потом плещет водой в лицо, вытирает его концом красного пояса и бежит, подпоясываясь на ходу.
Горелый лес кончился. Теперь мы едем по высохшему руслу ливневого потока. Он тс идет под уклон вдоль невысоких кустов и ржавых от мха и лишаев скал, то поворачивает под белые буки с уже пожелтевшей листвой. Опять под уклон и опять поворот. Конь под нами фыркает и громко дышит. Подковы стучат о камни — тук-тук. Этот молчаливый конь, эти странного вида кусты вызывают волнение и тревогу.