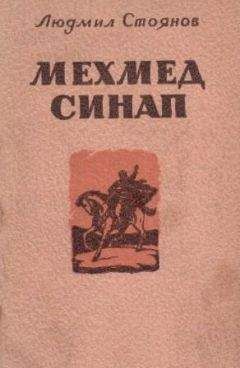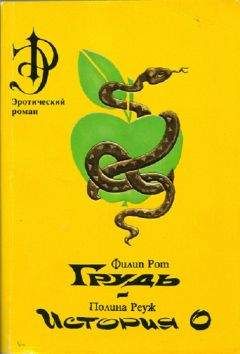Людмил Стоянов - Избранная проза
— Вот и мать! — говорит он, скорее всего, чтобы что-нибудь сказать, и ставит меня на землю.
Его широкая ладонь протянута для торопливого рукопожатия. Затем мать поднимается на цыпочки, и они целуются сначала в щеки, потом в губы. Мать украдкой вытирает слезы концом фартука. Подходит офицер.
— Моя жена, — глухо роняет отец, видимо, тоже взволнованный.
Мать здоровается с офицером за руку, не глядя ему в лицо от смущения и от слез.
— Пусть поплачет, — вмешивается отец. — Она тоже натерпелась немало.
— Теперь начнете новую жизнь, госпожа, — говорит сочувственно офицер. — Свободную жизнь.
— Свободную жизнь, — повторяет отец. — Знаете, мы вместе жили два года. Потом у меня год тюрьмы. За ним — год в деревне, и напоследок год в эмиграции в Болгарии. А она в деревне одна с малым ребенком.
— Ну, да ведь все это позади, — радостно заключает офицер.
— А ты, парень, — словно только теперь вспоминает обо мне отец и опять подбрасывает меня высоко над головой, — слушаешься маму?
— Слушается меня, слушается, — быстро говорит мать с широкой, но слегка грустной улыбкой на бледном лице. — Милко хороший мальчик.
И она засмеялась, уже вполне счастливая.
Подошли дедушка Продан и дядя Вангел, поздоровались с отцом и тоже поцеловались.
Отец немедля приступил к делу. Где лошади? Не очень ли они заморились? Сегодня мы переночуем за рекой, на болгарском посту. Утром кони и провожатые вернутся обратно, а мы поедем дальше на других лошадях. Надеюсь, достопочтенный эфенди ничего не имеет против?
Турки — оба таможенника и офицер — смотрят на моего отца с уважением. Ведь он говорит по-турецки лучше их, учился в Салониках. Очкастый таможенник подал документы. Все в порядке. Отец документы взял и стал читать. От этого турки совсем расчувствовались. Потом он вынул портсигар и угостил всех папиросами. Курят, хвалят табак. Для них Булгаристан — страна изобилия.
Расспрашивают о новостях. Их восхищает этот «биюк адам» — большой человек — Стамболов. Здорово он проучил русских…[45] Отец оказался общительным и словоохотливым собеседником. После оживленного разговора он дал распоряжение дедушке Продану и дяде Вангелу привести лошадей. Осмотр прошел без придирок, почти что только для виду.
— А теперь, — сказал отец своим громким басом, — прощайте, эфенди, да подаст вам аллах жизни и здоровья!
Лошади уже спускаются к мосту. Я держусь за юбку матери. После слов отца: «Прощайте, эфенди», — она схватила меня за руку и быстро двинулась вслед за лошадьми.
— Хороший народ, — промолвил отец, догнав нас. — Только правители у них плохие.
Он взял меня за другую руку и нежно потряс ее. «Как я соскучился по тебе!» — словно говорило это рукопожатие.
Отец с матерью прибавили шагу, и я шел, как лилипут между двумя великанами, по узкому деревянному мосту, который скрипел под ногами… На другом берегу, уже ступив на землю, отец взял меня на руки, поднял высоко и воскликнул радостно и самодовольно:
— Ура, сынок! Вот мы уже и в свободной Болгарии!
— Господи боже, — торопливо перекрестилась мать. — Наконец-то кончилось это мучение!
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕЯ не могу заснуть. Перед слезами все еще мельтешит горелый лес. Он окружает меня со всех сторон, теснит, как черная стена. Я вздрагиваю: за белым дымом пожара возникают вершины сосен и между ними желтый серп луны. По временам вспыхивает пламя, и высокие красные языки лижут темноту. Сквозь треск горящих сучьев доносится гул реки. Мне страшно.
Опять эти ночные выстрелы… Турки окружают двор. Дядя Вангел стоит прислушиваясь. Мать прижимает меня к себе и дрожит. В окнах играет зарево, меняется, растет… Слышны вопли, протяжный вой… Разбойники подожгли дом Петрана, а от него загорятся другие, ближе, а там и наш… Еще и еще выстрелы. Кто-то высоким гортанным голосом кричит: «Эй, братья селяне! Торопитесь тушить! Ведь живьем сгорим!»
Открываю глаза, уже светло, сна как не бывало. Тихо, спокойно. Высокое небо, живые стройные сосны, пестрая поляна, свежий воздух. Вершины на противоположной стороне сверкают, озаренные солнцем.
Отец и дедушка Продан оживленно разговаривают. Отец убеждает его в чем-то, а дедушка одобрительно кивает головой.
Пораженный внезапной мыслью, я вскакиваю и подбегаю к отцу. До меня только сейчас дошло, что я уже не увижу больше ни доброго дедушку Продана, ни веселого дядю Вангела. У матери глаза заплаканы. Те оба молчаливы, печальны. Им надо возвращаться в деревню, поэтому они спешат, чтобы не терять времени. Я тоже заплакал. Ведь я так люблю их обоих. Дедушка берет меня на руки, и на его темном, добром лице, в сетке бесчисленных морщин, светится грустная улыбка.
— Милко, не забывай своего деда!
И целует меня. Эта ласка так меня растрогала, что я долго стою сам не свой.
— Ты перебирайся сюда, перебирайся, — наставляет его отец. — Подбери себе ватагу и непременно приезжай.
В Болгарии теперь нужны мастера-строители. А дедушка отличный мастер-строитель и может заработать хорошие деньги.
Начинается прощанье. Голос дедушки Продана вдруг стал каким-то тихим, глуховатым и прерывающимся.
— Ну, Милко, с тебя начинаю, прощай. — Он снова целует меня. — Бойка, Богдан, прощайте. Буду ждать от вас вестей.
Подошел и дядя Вангел. Как ему ни было трудно, он хотел показать, что человек всегда должен владеть собой. Однако он все же долго не отрывал головы от плеча моей матери, а потом крепко поцеловал ее в щеку, а отцу моему поцеловал руку. Повел коней к мосту. Двинулся и дедушка Продан. Отец окликнул его:
— Отец, не забудь, что я тебе сказал!
— Знаю, знаю, — обернулся дедушка Продан и махнул рукой, — не забуду, нет.
Миновали мост, длинное здание и исчезли за углом.
Мать глядела им вслед. Ею овладели радость вчерашней встречи и печаль сегодняшнего прощания. Ведь это самые близкие ей люди. Этот миг, словно глубокая борозда, отделяет ее от прошлого. А что ее ждет впереди? Она украдкой смотрит на отца, который терпеливо молчит, понимая ее муку. И вопрос, что ее ждет, словно решается сам собой. Отец такой большой, бодрый, уверенный — чего же ей бояться?
Поблизости на лугу позванивают колокольчики других четырех лошадей. Пожитки разложены на траве, сейчас они будут навьючены, и мы отправимся дальше.
Отец ждет, пока мать успокоится, смотрит на небо, на лес, на поляну и говорит, вздохнув полной грудью:
— Хорошо, черт побери!
Из маленького белого домика вышел невысокий плотный человек, лысый, с желтыми кошачьими глазами на широком лице, в сером летнем пальто внакидку. Он медленно приковылял к нам на кривых ногах, по-приятельски поздоровался:
— Доброе утро, учитель! Ну как, мы в полной готовности, а? — И засмеялся, показывая под щетинистыми усами желтые изъеденные зубы. — Вот и превосходно. Поедете по холодку. Это ваши вещи? О, какое красивое блюдо! Откуда оно у вас? Похоже, албанское. Верно? Так я и думал. Тюфяки, одеяло, посуда — вся домашняя утварь…
Перед сундуком, разрисованным разноцветными длиннохвостыми птицами, он в восторге остолбенел:
— Художественная отделка!
В этом сундуке мать хранила все самое ценное и дорогое, что у нее было: свое приданое, украшения, белье, верхнюю одежду.
— Что же там внутри? — спросил чиновник и поднял крышку. — А, одежда.
И он начал вытаскивать вещь за вещью небрежно, нехотя, все время повторяя:
— Хорошее платье. Домашняя работа. Браво, госпожа.
Вынул искусной вязки фартук с пестрыми цветами.
— Хороший фартук. Чудесный. Хорошая вещь. Браво, госпожа.
Он долго им любуется, щурит глаза, отступает на один шаг и не перестает хвалить, так что щеки матери слегка розовеют.
Рассматривает сверток белого шелкового полотна с желтой каймой.
— Сколько метров в этом куске? — спрашивает мимоходом.
— Сколько аршин, — быстро вмешивается отец. — Она в метрах не разбирается.
— Тридцать аршин, — отвечает мать.
— Значит, около двадцати метров. Откуда оно у вас?
— Сама… Сама и шелковичных червей выкормила, сама и полотно выткала, — говорит мать, испуганно глядя на отца.
Чиновник поддернул пальто над левым плечом и озадаченно задумался. Потом сказал:
— Это хорошо, госпожа, что вы сами его ткали, но плохо, что его много. Надо посмотреть в циркуляре, сколько метров можно ввозить через границу для личных нужд.
Он откладывает сверток в сторону и продолжает рыться в сундуке, вытаскивать домотканые полотенца, рубашки, чулки, косынки, серебряные пряжки, золотые монеты для ожерелья… Все разглядывает, все хвалит.