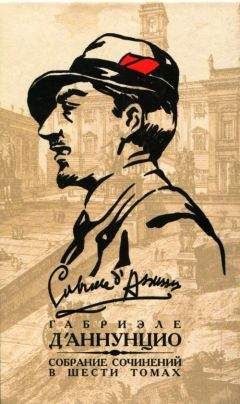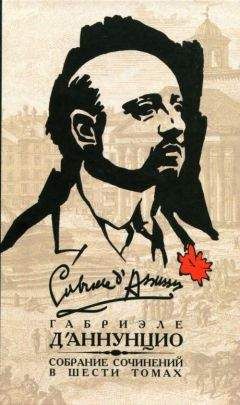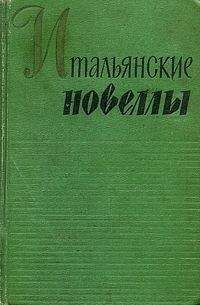Габриэле д'Аннунцио - Собрание сочинений в 6 томах. Том 2. Невинный. Сон весеннего утра. Сон осеннего вечера. Мертвый город. Джоконда. Новеллы
Потом ничего. Крики прекратились. По временам доносилось хлопанье дверей. Я был один. Доктор тоже был в комнате; но я был один. Что-то странное происходило во мне, но я еще не мог понять.
— Уходите, — сказал мне доктор тихо, прикасаясь к моему плечу. — Уходите из этой комнаты.
Я был покорен; я повиновался. Я медленно шел по коридору, когда кто-то снова дотронулся до меня. То был Федерико; он обнял меня. Я не плакал; я не испытывал волнения; я не понимал того, что он говорил. Однако, я услыхал, что он назвал Джулианну.
— Отведи меня к Джулианне, — сказал я ему.
Я взял его под руку; я дал вести себя, как слепого. Когда мы были перед дверью, я сказал:
— Оставь меня.
Он крепко сжал мне руку и ушел. Я вошел один.
LIНочью тишина в доме была гробовая. В коридоре горел свете. Я шел по этому свету, точно лунатик. Что-то странное происходило во мне, но я еще не видел ясно, что именно. Я остановился, точно предупрежденный инстинктом. Дверь была открыта: свет проникал через опущенные занавесы. Я переступил через порог; откинул занавесу; вошел. Колыбель, убранная белым, стояла посреди комнаты между четырьмя зажженными свечами. С одной стороны сидел брат; с другой — Джиованни Скордио. Присутствие старика нисколько не удивило меня. Мне казалось естественным, что он тут, я ни о чем не спросил его, я ничего не сказал ему. Кажется, я даже слегка улыбнулся им обоим, смотревшим на меня. Я, право, не знаю, действительно ли улыбнулись мои губы, но я как бы хотел им сказать: «Не беспокойтесь обо мне, не стараетесь утешить меня. Видите: я спокоен. Мы можем молчать». Я сделал несколько шагов, сел у подножек колыбели между двумя свечами. Я принес сюда свою испуганную, смущенную, слабую, совсем изменившуюся душу. Брат и старик все еще сидели, но я был один. Усопший был одет в белое: в крестильную одежду, или так мне показалось. Только лицо и руки были открыты. Маленький рот, так часто вызывавший во мне ненависть своим плачем, был неподвижен под таинственной печатью. Молчание его было и во мне, и вокруг меня. И я смотрел и смотрел. Тогда в этом молчании загорелся свет в глубине моей души. Я понял. Слова брата, улыбка старика не могли мне открыть того, что сразу открыл молчаливый, маленький рот младенца. Я понял. И тогда меня охватила страшная потребность признаться в своем преступлении, открыть свою тайну, заявить в присутствии этих двух людей:
— Я убил его.
Оба смотрели на меня, и я заметил, что оба беспокоились обо мне, смущались моим состоянием перед трупом, что оба с беспокойством ждали конца моей неподвижности. Тогда я сказал:
— Знаете, кто убил этого младенца?
Голос среди тишины звучал так страшно, что он мне самому показался неузнаваемым, чужим. Внезапный ужас заледенил мою кровь, сделал неподвижным мой язык, затемнил мое зрение. Я задрожал; я чувствовал, как брат поддерживал меня, трогал мою голову. В ушах у меня так шумело, что слова его доносились до меня смутно, неясно. Я понял, что он считает меня пораженным лихорадочным приступом и старается меня увести. Я дал увести себя.
Поддерживая, он увел меня в мою комнату. Страх все еще не оставлял меня. Увидя свечу, горящую на столе, я вздрогнул. Я не помнил, оставлял ли я ее зажженной.
— Раздевайся, ложись в постель, — сказал Федерико, с нежностью увлекая меня за руки.
Он заставил меня сесть на кровать, ощупал мой лоб.
— Послушай. Лихорадка твоя усиливается. Начинай раздеваться. Ну-ка, живей!
С нежностью, напоминавшею мне мать, он помогал мне раздеться. Он помог мне лечь в постель. Сидя у моего изголовья, он время от времени трогал мой лоб, а так как он видел, что я все еще дрожал, то спросил меня:
— Тебе холодно? Дрожь не прекращается? Хочешь, я тебя прикрою? Тебе хочется пить?
Я же думал, содрогаясь: «Если б я заговорил! Если б я мог продолжать! Неужели я сам, сам, собственными губами произнес те слова? Действительно ли то был я? А что если Федерико обдумает это, вникнет, и у него явится подозрение? Я спросил: „Знаете ли вы, кто убил этого младенца?“ Больше ничего. Но разве у меня не было вида исповедующегося убийцы? Обдумав это, Федерико спросит себя: Что он хотел этим сказать? Против кого направлял он это страшное обвинение? И моя экзальтированность покажется ему подозрительной. Доктор… Нужно заставить его думать о докторе. Может быть, он намекал на доктора? Нужно чтобы у него было новое доказательство моей возбужденности, чтобы он продолжал думать, что мозг мой расстроен лихорадкой и находится в состоянии непрерывного бреда». Во время этих рассуждений быстрые и ясные образы мелькали в моем представлении с очевидностью реальных осязаемых вещей. «У меня лихорадка и очень сильная. Если, действительно, настанет бред, и я бессознательно выдам свою тайну!»
Я наблюдал за собой с волнением и страхом.
Я сказал:
— Доктор, доктор… не сумел…
Брат наклонился надо мной, еще раз потрогал мой лоб и вздохнул.
— Не мучь себя, Туллио. Успокойся.
Он пошел, намочил полотенце холодной водой и приложил его к моей разгоряченной голове.
Образы ясные и быстрые, не переставая, мелькали предо мной. Со страшною силой мне представлялась картина агонии ребенка. Он лежал в агонии в колыбели. Лицо его было пепельного цвета с синеватым оттенком, так что над бровями пятна молочницы казались желтыми. Нижняя губа, вдавленная, была не видна. Время от времени он раскрывал посиневшие слегка веки, и вместе с ними закатывались и его зрачки, так что виден был лишь мутный белок. Слабое хрипение время от времени прекращалось. В один из таких моментов доктор сказал, желая сделать последнюю попытку:
— Скорей! скорей! Перенесем колыбель к окну, к свету. Места, места. Ребенку надо воздуху. Очистите место.
Брат и я перенесли колыбель, казавшуюся гробом. Но при свете зрелище было еще ужаснее, при холодном белом свете выпавшего снега. Мать говорила:
— Он умирает! Смотрите, смотрите: он умирает!
— Попробуйте, у него уже больше нет пульса!
А доктор:
— Нет, нет. Он дышит, пока есть дыхание, есть и надежда. Мужайтесь!
И он влил умирающему ложку эфира. Несколько минут спустя умирающий открывал веки, закатывал глаза, испускал слабый крик Легкая перемена происходила в цвете его лица. Его ноздри вздрагивали.
Доктор:
— Видите? Он дышит. До последней минуты не нужно отчаиваться!
И он махал веером над колыбелью; он нажимал пальцем на подбородок ребенка, чтобы разжать ему губы, чтобы открыть ему рот. Язык, прилипший к небу, опускался, как клапан, и я видел беловатую пену, собравшуюся в глубине его горла. Судорожным движением он подымал к лицу крошечные, крошечные ручки, посиневшие на ладонях, у ногтей, в сгибах суставов; эти помертвевшие ручки, которые каждую минуту трогала мать. Мизинец правой руки отделился от других пальцев и слегка дрожал в воздухе; это было ужасно.
Федерико старался уговорить мать выйти из комнаты, но она склонилась над Раймондо так близко, что почти касалась его: она следила за каждым движением. Одна из слезинок упала на голову ребенка. Она тотчас вытерла ее платком и заметила, что на черепе родничок понизился, углубился.
— Посмотрите, доктор! — воскликнула она вне себя от ужаса. И глаза мои уставились на этот мягкий череп, усеянный пятнами от молочницы, желтоватый, похожий на кусок воска, посреди которого сделали углубление. Все швы были видны. Синеватая жила на виске терялась под пятнами.
— Смотрите, смотрите!
Жизненная энергия, искусственно возбужденная на мгновение эфиром, теперь погасала. Хрипение имело какой-то особенный характер. Ручки упали безжизненно вдоль тела, подбородок ввалился; родничок стал еще глубже и не содрогался больше. Вдруг умирающий сделал усилие: доктор быстро приподнял ему голову; ее слегка стошнило сывороткой. Но во время этого усилия кожа на лбу натянулась, и сквозь эпидерму видны были желтые пятна застоя. Мать вскрикнула.
— Пойдем, пойдем, пойдем со мной, — повторял брат, стараясь увести ее.
— Нет, нет, нет!
Доктор снова дал ложку эфира. Агония затягивалась, затягивалось и мучение. Ручки снова подымались, пальцы едва двигались; между полураскрытыми венами показывались и закатывались зрачки, точно два поблекшие цветка, точно два маленьких венчика, которые сморщивались и вяло закрывались.
Наступал вечер, а агония младенца все еще продолжалась. На стеклах окна отражался точно отсвет зари; то был отсвет белого снега, борющегося с сумерками.
— Он умер! Он умер! — кричала мать, не слыша больше хрипения и видя появившееся около носа синеватое пятно.
— Нет, нет. Он дышит.
Зажгли свечу; ее держала одна из женщин, и маленький желтый огонек колебался у подножья колыбели. Вдруг мать раскрыла маленькое тельце, чтобы пощупать его.
— Он холодный, совсем холодный! — Ноги были вялы, ступни посинели. Ужасно было смотреть на этот кусочек мертвого тела перед окном, погружавшимся в темноту, при свете свечки.