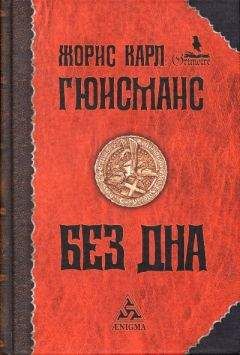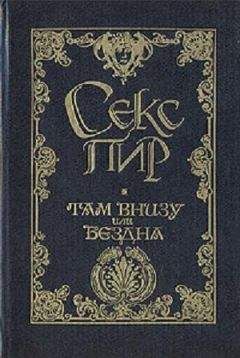Жорис-Карл Гюисманс - В пути
Кстати… Взглянул на часы и вздрогнул. Было два. — Я пропустил ноны. Мне решительно следует разобраться в сложном расписании таблицы, иначе буду всегда путаться“, — и он набросал в нескольких строках: утро, — встать в четыре или даже в половине четвертого; в семь — завтрак; в одиннадцать — сексты; в половине двенадцатого — обед; половина второго — ноны; четверть шестого — вечерня; в шесть — ужин и двадцать пять минуть восьмого — повечерие.
„По крайней мере, ясно и легко запомнить. Дай Бог, чтоб не заметил сегодня отец Этьен моего отсутствия в церкви!
Ах, да! Я не исследовал еще пресловутого регламента“, — подумал он, рассматривая картон, вставленный в раму и висевший на площадке.
Подойдя, прочел:
„Правила для господ богомольцев“.
Они слагались из многочисленных статей и начинались так:
„Смиренно просят лиц, которых Божественный Промысел привел в обитель, благосклонно внять нижеследующим предостережениям:
Надлежит всегда стараться избегать встреч с иноками и братьями послушниками, не подходить туда, где они работают.
Запрещено выходить за монастырскую ограду для прогулок, на ферму или в монастырские окрестности“.
Далее следовал ряд наставлений, уже помянутых в примечании к распорядку, напечатанному на таблице.
„Господ богомольцев просят не писать ничего на дверях, не зажигать спички о стену, не лить воду на пол.
Запрещается ходить по комнатам, навещать соседей и разговаривать с ними.
Запрещается курить в убежище“.
„А за стенами?“ — подумал Дюрталь. Однако, ему захотелось покурить, и он спустился вниз.
В коридоре столкнулся с отцом Этьеном, и тот поспешил намекнуть, что не видел его в церкви за богослужением. Как мог, Дюрталь извинился. Монах не настаивал, но он понял, что гостинник надзирает за ним и в вопросах устава, несмотря на свои ухватки доброго малого, проявит железную настойчивость.
Мнение Дюрталя превратилось в уверенность, когда, войдя в храм к вечерне, монах первым делом взглянул в его сторону, но он до такой степени чувствовал себя страждущим и ослабевшим, что не обратил на это никакого внимания.
Его ошеломила внезапная перемена жизни, коренной переворот его обычных дней. После утренней бури, он застыл в оцепенении, подрывавшем в корне его силы. Бессознательно провел конец дня, ни о чем не думал, спал наяву. И когда настал вечер, как подкошенный, рухнул на кровать.
III
В одиннадцать часов он стремительно проснулся с ощущением человека, которого рассматривают во время сна. Чиркнув спичкой и не увидев ни души, посмотрел на часы, снова улегся и проспал непробудным сном почти до четырех. Одевшись, поспешил в церковь.
Темное вчера преддверие сегодня утром было освещено, и в алтаре святого Иосифа служил обедню престарелый монах. Лысый и сгорбленный, он оброс белой бородой, развевавшейся длинными прядями.
Ему прислуживал послушник, маленький, с черной растительностью и бритым черепом, напоминавшим голубой шар. Он походил на разбойника со своей всклокоченной бородой, одетый в мешковатую, потертую рясу. Но глаза разбойника смотрели нежно и наивно, и прислуживал он с оттенком кроткого благоговения, с истинно-трогательным затаенным ликованием. Другие проникновенно молились, коленопреклоненные, или читали требники. Дюрталь опять заметил восьмидесятилетнего старца, который застыл с вытянутым лицом и закрытыми глазами. Усердно погрузился в свой служебник и тот юноша, чей жалостливый взгляд уловил Дюрталь возле пруда. Высокий, сильный, он был не старше двадцати лет. Слегка утомленное лицо носило одновременно печать мужественности и нежности, исхудалые черты окаймляла белокурая борода, остроконечно ниспадавшая на рясу.
Умиление охватило Дюрталя в церкви, где от каждого получал он частицу помощи и, помыслив о предстоящей исповеди, просил Господа укрепить его, умолял Творца, чтобы монах очистил его до самой сокровенной глубины.
Почувствовал себя смелее, увереннее, тверже. Попытался разобраться в себе, осветить свою душу и ощутил печальное смущение, не походившее, однако, на уныние, которое его сразило накануне. Воодушевился при мысли, что он борется с напряжением всех сил и обрел, во всяком случае, наивысшее самообладание.
Его размышления прервались уходом старого трапписта, окончившего службу, и появлением приора, который между двух белых иноков поднялся в главный алтарь ротонды, чтобы служить обедню.
Дюрталь углубился в молитвослов, но когда священник вкусил Святых Даров, он оторвался от чтения и, встав наравне со всеми, жадно впился взором в невиданное зрелище — причащение монахов.
Безмолвные, потупив глаза, выступали они друг за другом. Подойдя к алтарю, первый, открывавший ряд, повернулся и обнял товарища, шедшего за ним следом. Тот, в свою очередь, заключил в объятиях чернеца, ближайшего к нему, и так повторилось до последнего. Обменявшись перед принятием Святых Тайн поцелуем мира, они преклонили колена, причастились и все так же, гуськом, потянулись обратно, обходя за алтарем ротонду.
Это было необычайное шествие. С белыми отцами во главе, возвращались монахи медлительною поступью, закрыв глаза, сомкнув руки. Лица как бы преобразились, мерцали внутренним сиянием. Казалось, что билась о стенки тела покорная Святым Дарам душа, проникала сквозь поры озаряла кожу прозрачными отблесками необычайной радости, которые, источаясь из непорочных душ, растекались, подобно розоватому фимиаму по щекам, в сияющем ореоле изливаясь над челом.
В их механической, неуверенной походке угадывалось тело, низведенное на степень автомата бессознательно исполняющее привычные движения, тогда как душа ничуть не беспокоилась о нем, унесшись далеко.
Дюрталь распознал престарелого послушника, лицо которого теперь тонуло в бороде, приподнятой выпяченной грудью, а большие стиснутые руки дрожали. Заметил также высокого юного брата, с резкими чертами изнеможденного лица, который, опустив глаза, скользил легкими шажками.
Неизбежно задумался Дюрталь над самим собой. Лишь он один не причастился. Даже Брюно, последним выйдя из алтаря, скрестив руки, возвращался на свое место.
В этом исключении он ясно пережил свою оторванность, свою отдаленность от иноческого мира. Все были допущены — все, кроме него. Открыто свидетельствовалась его недостойность, и его печалило такое отчуждение, огорчала заслуженная им участь оглашенного, которого, подобно евангельскому козлищу, отделили подальше от овец, рукою Христа.
Уразумение всего этого подействовало благотворно, рассеяло все еще державшийся страх исповеди. В сознании необходимости уничижения, в неизбежности страдания, она казалась теперь такой естественной, такой справедливой, что ему захотелось совершить ее немедля и предстать в церкви омытым, очищенным, хотя немного уподобиться другим.
По окончании обедни зашел к себе в келью, чтобы запастись плиткой шоколада.
Вверху лестницы Брюно, в большом фартуке, снарядился вычищать степени.
С изумлением наблюдал за ним Дюрталь. Посвященный усмехнулся и пожал ему руку.
— Превосходная работа для души, — и он указал на метлу. — Наставляет смирению, о котором слишком склонны забывать люди, выросшие в мире.
И старательно принялся мести и собирать на лопату пыль, которая, словно толченый перец, темнела в скважинах плит.
Дюрталь захватил плитку в сад. «Куда идти? — раздумывал он, грызя свой шоколад. — Если взять другой путь, пройтись куда-нибудь в лес, которого я еще не знаю? — Но сейчас же передумал. — Нет, в моем положении всего разумнее бродить в знакомом месте, ни в коем случае не удаляться из уголка, к которому я уже привык. Я так легко разбрасываюсь, такой рассеянный, что лучше не развлекать себя любопытством невиданных ландшафтов». — И направился к крестообразному пруду. Поднявшись вдоль берегов и достигнув вершины, удивился, натолкнувшись в нескольких шагах отсюда, на испещренный зеленоватыми крапинками ручей, прорытый между двумя плетнями, служившими монастырскою оградой. Дальше расстилались поля; крыши обширной фермы проглядывали меж деревьев, и на горизонте повсюду раскидывались на холмах леса, казалось, заграждавшие небесный свод.
— Я полагал, что этот участок больше, — подумал Дюрталь, повернув обратно.
У изголовья крестообразного водоема погрузился в созерцание исполинского деревянного креста, который высился, отражаясь в зеркальной глубине. Обращенный к воде задней стороной, он врезался в гонимую ветром легкую зыбь и, словно виясь, опускался на чернеющую плоскость. Мраморное тело Христа скрывалось за древком и лишь руки белели, виднеясь из-за орудия пытки, судорожно искривленные во влаге вод.
Присев на траве, Дюрталь рассматривал сумрачное отражение простертого креста и размышлял о душе своей, затуманенной грехом, подобно пруду, затемненному ложем мертвых листьев. И он болел душою за Спасителя, которого он призывает сойти в его душу, окунуться туда, в муки горшие страстей Голгофы, свершившихся на высоте вольного простора, средь бела дня, с поднятою головой, которого обрекает снизойти среди ночной тьмы в глубокий смрад, в мерзостную грязь порока!