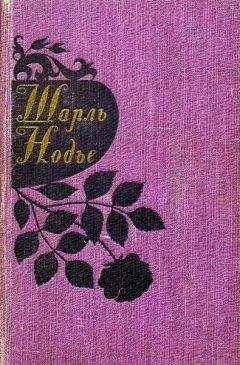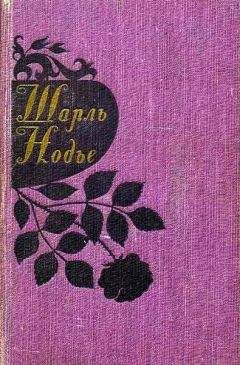Сатанинская трилогия - Рамю Шарль Фердинанд
Испарения поднимаются такие густые, словно в прачечной, когда женщины кипятят белье; и человек, в конце концов, тоже заходит в воду, засучив штаны, Буренка отказывалась двигаться с места.
Все это на песчаном берегу у подножья большой скалы, где растут красные сосны, будто наполовину стертые на фоне неба.
И надо было со скалы спуститься, затем подняться, пройти по лесу, там за дубами послышались крики и звуки кнута, вновь пустившийся в путь старик с корзиной огляделся по сторонам.
Он ничего не увидел, ничего невозможно было увидеть, вокруг были одни деревья.
Вокруг было одно страдание, но кто страдает — не видно, белая колонна над ним продвигалась вперед.
Страдание было в кронах, страдание было в лужах. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал — одно страдание. От ручья почти ничего не осталось, все родники высохли. Повсюду страдают, умирают, никто ничего не слышит. Маленькие, крошечные жизни. Старик по-прежнему идет под белой колонной, вокруг все гибнет, но глазами не разглядеть. Он по-прежнему один, ничего не слышно. Жизни заканчиваются, никак не сообщаясь, не возвещая о своей кончине. Ах, как это важно, умереть в одиночестве! Как мы одиноки, когда умираем! Каждая вещь, каждое существо один на один с ничем. Склоняется ветка, склоняются остальные. Листья поменяли окраску. Перевернувшись, они показывают бледную изнанку. Зяблик сегодня утром полетел так далеко, сколько хватило сил, он вернулся, так и не найдя насекомых. Страдают все и везде: те, что не разговаривают, и то, что молчит. Комочек розовой плоти в гнезде, еще не покрытый перьями, с маленькими круглыми глазками с пленками и большим еще не затвердевшим клювом, который все открывается, открывается. Совсем крошечное и очень большое. И сама земля что-то вымолвила и застонала, переворачиваясь, словно больной в кровати. Многого не слышно, но есть кое-что, что слух улавливает. Слышно, что трещит под ногами, оно движется, здесь и под горой, дальше, где виноградники. Старик идет с плетенками, под белой прозрачной колонной. Весь тростник повалился набок. Все уступает, все исчезает. Он продолжает путь в одиночестве, с каждым новым открытием опуская голову, вытягивая ее вперед, чуть дальше от ивовой колонны. Он все время был один и продолжал идти. И вот перед ним открылась первая глубокая расщелина поперек дороги. И вот еще одна. Весь склон заходил ходуном. Склон трещал, раскалывался. Слишком много пространства, в котором слишком мало материи. Оно движется, будто чешуйчатая ящерица, а старик словно у нее на спине, он идет по ее спине, по самому гребню. Вот показалась деревня. Сразу за холмом, стоило только добраться до вершины и начать спускаться, — там, внизу, на краю озера, возле залива, — деревушка с церковью, старой башней и плоскими крышами, крытыми желтой черепицей…
— Стой!
Он был вынужден остановиться.
Из-за стены показались двое или трое мужчин. Они преградили дорогу.
— Ни с места!
Закукарекал петух, закудахтала несушка. Церковные часы с синим циферблатом отмеряли время.
— Куда направляешься?
— Не знаю.
— Тогда поворачивай обратно!
Они машут руками, опять за свое:
— Тебе ясно?
Он какое-то мгновение еще стоит со своим грузом, видит, что не может войти, видит, что здесь он не нужен.
Ничего страшного!
Он повернулся с корзинками и плетенками, вновь поднялся по дороге, вот уже и ног не видно.
Виднеется лишь верх его белой колонны.
А теперь и колонны не видно.
22
Вот как теперь обстоят дела, они организовывают своего рода республики: каждая деревня — республика. Каждая деревня — как в старые времена, когда вокруг возводили стены и рыли рвы. На дорогах вооруженные посты. Они укрылись за стенами, под навесами, за большими грушевыми стволами. Всех, кто появится — в автомобилях, на велосипедах, на повозках, на лошадях, прохожих — всех останавливают.
Двумя-тремя днями ранее крестьяне из окрестных мест еще приходили, приводя скот, привозя утварь и запасы съестного, которые могли уместить на довозках и на телегах, люди находили, где всех разместить. Теперь они организовались. Теперь это республика. Здесь все свои. Все защищаются. Они оставили всякую работу в полях и на виноградниках, у них больше времени, чем обычно. Они поочередно стояли на часах или устраивали собрания и выступали с речами в здании школы. Сегодня утром выступал Эдуар Паншо — и он тоже — перед тем, как отправиться с братом ловить рыбу, но другие остались.
— Так нужно, раз уж вы свалились нам на голову и нам надо вас как-то кормить!..
Говорил Паншо. Слышны были выстрелы.
Звонил школьный колокол, объявлявший об очередном собрании; они проводились три раза в день.
Дети с интересом смотрели. Женщинам тоже было забавно, они тоже смотрели.
Идут мужчины, набросившие поверх рубашек солдатские патронташи; на них большие камышовые шляпы с красными ленточками.
Трое здесь, трое-четверо — там. Серые рубашки, полотняные штаны, красные ленточки на камышовых шляпах, идут мужчины.
Вот эти трое назначены стоять на посту напротив железнодорожных путей и большой розовой фермы, которую все зовут Шапотан, — это Луи Бюше, Кортези, Делесер. Пониже, на большой дороге, еще пост.
— Вот так, так! — сказал Кортези.
Вытянув руку, он на что-то показывает, словно что-то поднял с земли и держит.
Это автомобиль, его только что задержали. Сидевшие в нем люди выходят, все укутанные, в пыльниках, платках, очках.
И Кортези:
— Дороги нет!
Протянутой рукой он словно приподымает дорогу и все, что на ней; всех, кто уже закончил свой путь.
Средь серого, под нависающим бурым — белизна, белесая дорога; рядом — луга, воздушные массы; позади — озеро:
— Все, конец!
Поскольку все договорились, что это конец.
Кортези смеется, и остальные двое, глянув, тоже. Затем они берутся за ремни ружей, встают поперек дороги.
В трехстах или четырехстах метрах перед ними — ферма Шапотан, из-за пыли ее плохо видно, хотя у нее и розовые стены. Однако у них хорошее зрение. Они сразу же заметили, что туда забралась целая ватага. Теперь так по всей деревне: шайки бродяг на ночь или две устраиваются в домах, которые обитатели вынуждены были оставить. Так, понемногу, оно побеждает, война выигрывает. И разруха также, они разрушают все, поджигая жилища, обдирая плоды с деревьев, a потом набрасываясь и на сами деревья. Эта шайка вышла из леса, они пробрались на ферму.
— Давай, Луи!
Кортези и Делесер кричат Луи Бюше, он лучший стрелок из троих. Бюше взял ружье.
Он опустил правое колено на землю, оперся ружьем о низкую стену, за которой укрылся, стал ждать.
Долго ждать не пришлось. Проникшие в дом пять или шесть человек уже выходят.
— Стреляй!
Шесть патронов в магазине, седьмой в патроннике, нужно лишь чуть откинуться…
— Браво, Луи! В самую точку! Ну, теперь, толстяк!.. Браво, Луи!.. Они не понимают, что произошло, вот смеху-то! Осторожно, Луи, тот, что на боку… Браво!
И снова:
— Браво!
В то время как недалеко отсюда, на дороге, люди, сложив руки, умоляют:
— Пожалуйста!
— Нет! Вам сказали!
— О, пожалуйста! Пожалуйста!
Но на посту ничего не желают слушать.
Автомобиль, который заставили развернуть, страшно трясется по крутой поперечной дороге. Остановился еще один, люди ждут, чего они ждут?
Мы тут у себя дома, вы не проедете!
Нечто вроде республики. Они сказали себе: «Останутся только свои!»
Деревни будто острова. Да немного неба над ними, они хотят, чтобы это было их небо.
Они сказали себе: «Что б ни случилось, будь как будет! Нужно попробовать выжить!» Мы упрямые, нас просто так не возьмешь. Нельзя работать в поле — что ж, найдем занятие дома. Работы мало не бывает. Они играют музыку молотками, молятся у наковален, извлекают ноты, шлепая по гвоздям, ровняют слова, колотушкой вбивая колья, выстраивают целые предложения, гоняя рубанок.