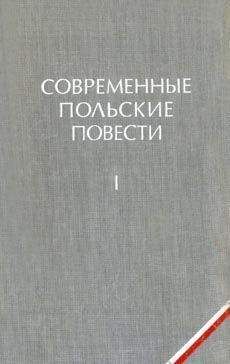Густав Морцинек - Семь удивительных историй Иоахима Рыбки
— Идем!
Я направился к нашему кусту. Он пришел за мной следом. Куда девалась его гордая, надменная осанка? Он шел, как человек бесконечно усталый.
— Я тебе кое-что покажу! — сказал он.
— Пожалуйста!
— Но прежде, чем покажу, на, держи! На память! — И он протянул мне на раскрытой ладони часы.
Я с удивлением смотрел то в его мутные глаза, то на часы.
Я не мог понять, что ему надо от меня.
— Бери! — настаивал он, подходя ко мне с часами. Часы были серебряные, мужские. Я нехотя взял их и пристально поглядел в глаза дьявола.
— Почему вы даете мне часы?
— Бери! Не спрашивай! Это часы еврея. Помнишь, я тебе рассказывал про Белжце. Один слой евреев лежит, а я этим вот пальцем, — он поднял правую руку и вытянул вперед указательный палец, — как бог в Сикстинской капелле. Только он своим пальцем сотворял, а я… поправлял его. Я уже однажды это говорил. Потом другой слой. Евреи, еврейки, дети… А я этим вот пальцем… Потом третий слой! Всех ли я сразу убил, не знаю. Меня это не интересовало. Была только поганая еврейская кровь, и я… я был тем, кто исправлял дело вашего дурацкого бога. Потом четвертый слой, пятый и последний… А когда эти последние шли по вздрагивающим, бившимся в судороге телам, быть может, своих близких, детей, родителей и покорно ложились на них, самым последним спустился старый еврей. Он дал мне часы и сказал: «Вот вам, господин солдат, часы и, пожалуйста, хорошенько в меня цельтесь, чтобы мне не мучиться!» Я взял часы и просьбу его исполнил. Бери их на память… А теперь я тебе покажу кое-что другое. Покажу тебе der Fluch der bosen Tat, как ты тогда сказал. Вот смотри! — И он достал из бумажника фотографию. Протянул мне. На фотографии была снята молодая женщина с двумя девочками.
— Кто это?
— Это моя вилла, а дама — моя жена, Гильда. Девочка побольше — дочь Эрика, а другая — тоже дочка, Ирмгарда. А вот еще одна фотография!
На второй фотографии была снята та же самая вилла, его жена была уже постарше, а обе девочки с первой фотографии — подростки.
— А вот и третья! Снимок сделан теперь, во время моего отпуска!
На фотографии были развалины. Видно, бомба попала прямо в дом.
— А где жена и дочки?
— Смотри! Под развалинами! Да! Под развалинами! Иисусе! Мария! Под развалинами! — простонал он, схватился за голову и завыл. Он упал на колени и заскулил еще громче. Так вот и увидел я сокрушенного дьявола…
Я убежал от него.
На четвертый день пришли американцы. Часть эсэсовцев смылась днем раньше, часть осталась на сторожевых вышках и в казармах. Мы — тысяч двадцать пять заключенных — буквально обезумели от радости, но разве об этом расскажешь! Каждый может себе это представить.
Случилось, однако, и кое-что неожиданное.
В числе оставшихся эсэсовцев был Готфрид Кунц. Я видел, как он, подняв руки, вместе с остальными спускался со сторожевой вышки. Они выстроились под вышкой. Было их всего восемь. Пришел американский солдат. Один из тех, которые застали на железнодорожной станции в Дахау поезд, составленный из угольных платформ, а на них трупы людей, вывезенных неведомо из какого лагеря. Эсэсовские охранники перестреляли их по дороге, сами убежали, а машинист привез несколько тысяч трупов в Дахау. Потом американцы увидели возле крематория гигантскую свалку трупов моих лагерных товарищей, которые не дождались свободы, a Verbrennungskommando[46] не успели их сжечь. Потом они увидели в лагере людей, агонизирующих на соломенных подстилках, ползающих на четвереньках, похожих на завшивевшие пугала.
Поэтому меня нисколько не удивило то, что сделал этот американский солдат.
Он шел танцующей, легкой, кошачьей походкой, в шлеме, с тяжелым кольтом на боку, с ручными гранатами за поясом, с автоматом на шее, запыленный, в перепачканном мундире. Лицо его показалось мне маской одной из Эвменид, вышедшей из руин античного театра в Таормине. Он подошел к эсэсовцам. Что-то залопотал по-английски, обращаясь к нам. Я не разобрал. Видать, он изъяснялся на американском жаргоне. Все мы, однако, были убеждены, что он показывает на пленных эсэсовцев, давая этим понять, что нашей неволе пришел конец.
Эсэсовцы, стоявшие с поднятыми руками, должно быть, так же объясняли себе непонятное лопотанье солдата. Они подобострастно улыбались. Только у Готфрида Кунца лицо сохраняло угрюмое выражение. Увидев меня, он помахал рукой.
Вдруг застрочил автомат. Как сейчас вижу: американец держит под мышкой автомат и поливает очередями. Эсэсовцы валятся поочередно. И это все. Вижу, лежат они на земле, бьют ее ногами, скребут пальцами, хрипят и затихают. Между ними Готфрид Кунц. Он упал на бок, съежился, голову положил на вытянутую руку. Фуражка слетела с головы, и светлые волосы разметались. Он был похож на уснувшего ребенка.
Американец снова что-то нам кричит, а потом кошачьим шагом крадется к следующей вышке, под которой стоят, подняв руки, эсэсовцы.
Автоматные очереди раздавались до самого вечера. Американцы перестреляли всех эсэсовцев, взятых в плен. В течение трех дней их трупы не убирались.
Комендант американского гарнизона отметил в приказе, переведенном для нас на семь языков, что эсэсовцев расстреляли по его указанию во имя справедливости. Я понял эти слова как попытку коменданта успокоить свою и нашу совесть тем, что свершился акт правосудия, а не убийство.
Потом пришли крестьяне, их согнали из окрестных деревень и заставили хоронить трупы — и заключенных и эсэсовцев.
Я упросил коменданта, чтобы останки эсэсовца Готфрида Кунца разрешили похоронить под кустом жасмина. На металлической табличке я написал красным лаком: «Вот в том и злодеяния проклятье…» — и поставил ее на могиле.
Это было в мае. А в начале июня по ночам на кусте жасмина пели соловьи. И когда на поверочном плацу горели костры, сложенные из грязного, завшивевшего белья, сенников, подстилок и наших полосатых курток, а санитары-негры подбирали наших товарищей, умерших уже после освобождения, и хоронили их в братской могиле, а тифозных больных и дистрофиков увозили в бывший эсэсовский госпиталь за лагерем, я слушал, как поют соловьи. Один из американских корреспондентов, таскавшихся с кодаками за армией, записывал их пение на магнитофонную ленту. А когда я ему сказал, что под кустом жасмина лежит эсэсовец, величайший злодей, потерявший всю свою спесь с того момента, как погибли его жена и две дочки, журналист очень обрадовался и сказал, что напишет замечательный репортаж для своей газеты в Америке.
После тех событий прошли годы.
И сегодня, когда я слушаю щелканье соловья над могилой висельника, минувшие события предстают передо мной, и я смотрю на них, как смотрят старую киноленту на сером экране.
Я теперь удивляюсь многим вещам, так же как и вы удивляетесь. И здесь я до сих пор еще удивляюсь. Например, я никак не могу понять, почему… Нет! С грехом пополам понимаю, почему этот страшный человек, это воплощение дьявола, избрал именно меня в свои поверенные и почему побоялся меня убить, чтобы получить трехдневный отпуск. Но я так и не понял, почему он дал мне часы. Да еще в тот самый день, когда вернулся из отпуска совершенно опустошенный, а потом сказал мне, что его жена и обе дочки лежат под развалинами собственного дома.
Эх, не стоит об этом думать!..
Куда приятнее слушать пение соловья над могилой висельника, зная, что в шкафу тикают часы Кунца, сокрушенного дьявола, часы, полученные им от еврея за оказанную милость — меткий выстрел в затылок.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,
Мись обычно спит на кожухе, расстеленном возле кровати, а Кася — рядом со мной, притулившись на моей груди. Она похожа на теплый, мурлыкающий клубок мягкой шерсти. Когда я дотрагиваюсь до нее, она мурлычет громче, а я пальцами чувствую, как мерно колотится ее крохотное сердечко. Это смешно, я понимаю, но мне кажется, будто под шерсткой тикают маленькие часики.
Мись и Кася относятся ко мне с трогательным доверием. Очень верные зверюшки, куда более верные, чем иные люди.
В их обществе я не чувствую себя одиноким стариком.
Правда, Эпикур сказал, что каждый из нас обязан всемерно оберегать свое одиночество среди шумной толпы человеческой. Сенека, однако, уверял, что одиночество толкает нас к греху.
Ни первый, ни второй так и не поняли и не объяснили нам сути одиночества. Может, это сделал какой-нибудь другой философ, только я его не читал. Лично я знаю, что одиночество — слишком тяжкое бремя для человека и он всегда ищет, кем или чем заполнить пустоту вокруг себя. Мне для этого достаточно воспоминаний и моих верных зверюшек.
Собака и кошка — оба приблудные. Спят со мной на кровати. Когда я не могу уснуть, я думаю: вот тут пусть и приходят воспоминания. Сел я, положил Касю к себе на колени. Кася мурлычет сквозь сон, Мись похрапывает, раскинувшись на спине, а я гляжу в окно и вижу за ним ночь.