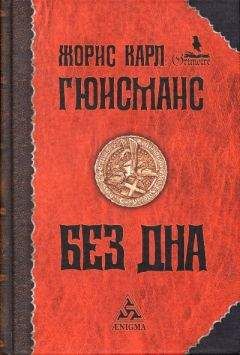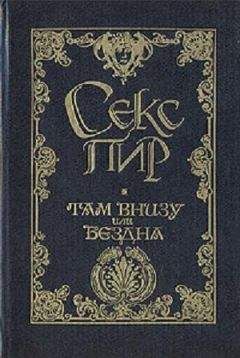Жорис-Карл Гюисманс - В пути
Вечером, раздеваясь, он вздохнул: „Завтра я буду ночевать в келье. Да, но если задуматься, это все же удивительно! Если бы несколько лет тому назад кто предсказал мне, что я укроюсь у траппистов, я, конечно, счел бы его сумасшедшим! А вот я стремлюсь теперь туда по доброй воле, впрочем, нет, я ухожу, толкаемый неведомою силой, подобно псу, гонимому бичом!
Но какое, в сущности, знамение времени! — продолжал он свои думы, г Нет, правда, как смердит современное общество, если Господь Бог не проявляет особой разборчивости, а вынужден брать, что попадется, довольствоваться обращением людей, вроде меня!“
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Дюрталь проснулся радостный, оживленный, удивился, что в миг отъезда в траппистскую обитель рассеялись все страхи, и он настроен решительнее, чем всегда. Пытался сосредоточиться, молиться, но сильнее обычного напала на него рассеянность, блуждали мысли; равнодушие не исчезло, не ощущалось умиления. Удивленный, заглянул он в себя, встретив пустоту. Подметил лишь, что сегодня утром он во власти одного из тех нежданных настроений, когда человек превращается в ребенка, беспечно развлекается, утратив способность видеть изнанку вещей, радуется всему.
Поспешно одевшись, сел в экипаж, высадивший его у вокзала. Здесь поддался приступу истинно детского тщеславия. Рассматривая людей, мелькавших в залах, топтавшихся перед кассами, или смиренно провожавших свой багаж, он чуть не преклонялся пред собой. «Эти путешественники движимы удовольствием, делами, — думал Дюрталь, — они вправе колебаться, да, — но не я!»
Но устыдился вздорных мыслей, и устроившись в купе, где на его счастье не было больше никого, закурил папиросу, подумав: недолго остается мне курить. И предался мечтам, погрузился в раздумье о монастырях, душой скитался около траппистов.
«Помнится, одна газета определяла число монахов и монахинь во Франции в двести тысяч.
Эти двести тысяч человек, в наше время постигших нечестие борьбы за жизнь, срам блуда, ужас деторождения хранят честь страны!»
И, перескочив с иноческих душ к книгам, которые он уложил с собой, рассуждал так: «Любопытно, однако, что влечение французского искусства безусловно противно мистике.
Все возвышенные мистики — иноземцы. Святой Дионисий Ареопагит — грек; Эккарт, Таулер, Сюзо, сестра Эммерик — немцы; Рейсбрюк — уроженец Фландрии; Святая Тереза, Святой Иоанн де ла Круа, Мария д'Агреда — испанского происхождения; П. Фабер — англичанин; Святой Бонавентура, Анжель де Фолиньо, Магдалина де Пацци, Екатерина Генуэзская, Жак де Воражин — итальянцы…
Кстати, — его озадачило последнее из имен, которые он перебирал… — Почему не захватил я его „Золотой Легенды“? И как было не вспомнить об этой настольной книге Средневековья, утешавшей в долгие часы тягостных постов, простодушной помощнице в дни набожных канунов. Неверующих нашего времени „Золотая Легенда“ манит, подобно изысканным пергаментам, на которых усердные рисовальщики раскрашивали лики святых камедью по золотому фону.
В литературной миниатюре, в мистической прозе Жак де Воражин — истинный Жан Фуке или Андре Боневё!
Нет, право, нелепо было забыть эту книгу. В Траппе она помогла бы мне переживать древние, драгоценные часы!
Странно, — вернулся он к прерванной цепи своих дум, — что Франция обладает религиозными писателями, более или менее знаменитыми, но слишком бедна мистиками в строгом смысле. Также и с живописью. Истинные ранние мастера — фламандцы, немцы, итальянцы, и среди них — ни одного француза, и наша бургундская школа вышла из Фландрии.
Нет, бесспорно, дух нашей расы явно не искушен в раскрытии и объяснении путей Господних, которые пролагает Он в самую сердцевину души — туда, где зарождаются мысли и сочится родник постижений.
Он не стремится объять изобразительною силой слов глас или безмолвие благодати, озаряющей разрушенное царство греха, неспособен извлечь из мира тайны откровения психологические, какими являются труды Святой Терезы и Святого Иоанна де ла Круа, и произведения искусства, подобные творениям де Воражина или сестры Эммерик.
Невозделана нива наша и терниста почва, да и где найти земледельца, который взборонит ее и засеет, соберет не мистическую жатву — нет, — но лишь хлеб духовный, чтобы напитать голод скитальцев, ослабевших, беспомощно блуждающих и падающих в ледяной пустыне современности.
И бессилен пахать эти пустыри священник — вечный работник на пажитях надземности, призванный возделыватель душ.
Семинария воспитала его покорным и незлобивым, умеренностью пропитала его жизнь. И, по-видимому, отвернулся от него Господь — вернейшее доказательство, что лишены священнослужители всякого дарования. Не осталось одаренных священников ни на кафедре, ни в книге. Миряне унаследовали благодать, разливавшуюся в средневековой церкви. Другой пример еще поучительнее. Церковники почти не творят в наше время обращений. Минует их угодное небу существо, влекомое непосредственно самим Спасителем, направляемое Его личным воздействием.
Невежество и необразованность духовенства, непонимание среды, презрение мистики, отрицание искусства — отняли у него всякое влияние на искушенные души. Оно царит лишь над неразвитыми мозгами ханжей и ложных святош. И, без сомнения, так лучше — здесь перст Божий, и если б стало оно властелином, если б овладело и двигало несносным стадом паствы — все кончилось бы во Франции ураганом клерикальной тупости, гибелью всякой литературы, всякого искусства!
Спасти церковь может лишь монах, которого священник ненавидит и жизнь которого является для него вечным укором. А что, если и здесь рассыплется мечта, когда я увижу монастырь вблизи, — подумал Дюрталь. — Но нет, мне везет. Судьба хранит меня. Если в Париже я встретился с исключительным аббатом, не равнодушным, не педантом, то почему не столкнусь я в аббатстве с истинными монахами?»
Закурив папиросу, он начал рассматривать ландшафт в окно вагона. Поезд спускался в низину, и навстречу ему телеграфные нити плясали в облаках дыма. Ровный, незанимательный пейзаж. Дюрталь откинулся на спинку своего сидения.
«Как-то сложится приезд мой в монастырь? Во избежание напрасных слов, я ограничусь вручением отцу гостиннику письма. Все устроится!»
Он чувствовал полное умиротворение. Изумлялся, что исчезли тяжести и страхи, и чуть не сменились радостным подъемом. «Славный священник был прав, уверяя, что я сам сочиняю чудовищные призраки… И задумался об аббате Жеврезе. Удивился, вспоминая, как за все время знакомства он ничего не узнал о его прошлом, не стал ближе к его интимной жизни. И вправду, я всегда мог бы осторожно расспросить его, но никогда не приходило мне этого в голову. Связь наша всецело ограничилась вопросами религии и искусства. Такая неизменная замкнутость не создает захватывающей дружбы, но порождает своего рода янсенизм влечения, не чуждый прелести.
Пусть так, церковник этот — человек святой, чуждый лукавого, вкрадчивого обхождения священников. Кроме нескольких жестов, манеры запускать за пояс руки, или прятать их в рукава, привычки прогуливаться за разговором взад и вперед, невинной страсти загромождать речь свою латынью, он далек от наружности и елейных бесед своих собратий. Обожает мистику и древнее пение. Он необыкновенный. Его заботливо мне ниспослало небо! — Взглянув на часы, вздохнул: — вот и подъезжаем; я проголодался; через четверть часа будем в Сен-Ландри».
Чтобы занять время, Дюрталь постукивал по оконному стеклу, смотрел, как убегают поля, уносятся леса, курил папиросы. В должное время снял с сетки саквояж и высадился наконец на станции.
На площади, возле крошечного вокзала, заметил таверну, о которой рассказывал аббат. Встретившая его в кухне приветливая женщина ответила:
— Хорошо, сударь, будет исполнено. Вы позавтракаете, а тем временем запрягут лошадь.
И он вкусил неудобоваримых кушаний. Увидел пред собой телячью голову, залежавшуюся в деревянной лохани, несвежие котлеты, овощи, почерневшие на сковороде. В том настроении, какое переживал он, его забавлял этот невозможный завтрак. Пригубил вина, от которого горело горло, и смиренно выпил кофе, после которого на дне чашки остался осадок песка.
Вскарабкался в тележку, которой правил молодой парень; во всю прыть понеслась лошадь по деревне, и потянулись окрестные поля.
Дорогой он расспрашивал об общине траппистов, но крестьянин не знал про нее ничего.
— Я, видите ли, часто езжу туда, но не вхожу внутрь. Гележка останавливается у ворот, и мне, понимаете, нечего вам рассказать…
Уже час проехали они по дорогам. Крестьянин кнутом послал приветствие дорожному рабочему и заговорил с Дюрталем:
— Говорят, черви пожирают им живот.