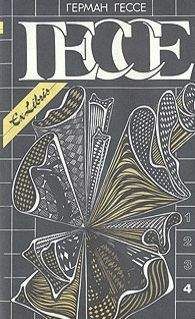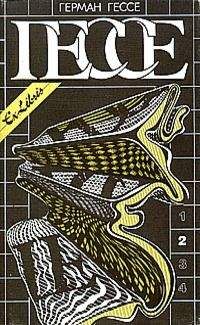Герман Гессе - Собрание сочинений в четырех томах. Том 3
Ах, вот и сегодня, глядя с сожалением на рыб и с отвращением на людей, заполнивших рынок, с сердцем, исполненным страшного уныния и горькой враждебности к миру и самому себе, он подумал о Викторе. Может, его нашли и похоронили? И если это произошло, все ли мясо теперь сползло с его костей, все ли сгнило, все ли съели черви? Остались ли волосы на его черепе, бровях над глазницами? А жизнь Виктора, наполненная приключениями, и историями, и фантастической игрой его диковинных шуток и россказней, — что осталось от нее? Кроме бессвязных воспоминаний, сохранившихся о нем у его убийцы, осталось ли хоть что-нибудь от существования этого человека, бывшего все-таки не совсем обычным? Видели еще в своих снах Виктора женщины, когда-то любимые им? Ах, все прошло и истаяло. И так бывает со всем и вся: быстро расцветает и быстро увядает, покрывшись затем снегом. Каких только надежд не питал он сам, когда несколько лет тому назад пришел в этот город, полный жажды искусства, полный глубокого трепетного почтения к мастеру Никлаусу! А что осталось от этого? Ничего, не больше, чем от долговязого грабителя Виктора. Если бы кто-нибудь сказал ему тогда, что настанет день, когда Никлаус признает его равным себе и потребует от гильдии звания мастера для него, он бы считал, что держит в руках все счастье мира. А теперь это не более чем увядший цветок, что-то сухое и безрадостное.
Когда Гольдмунд размышлял об этом, ему вдруг предстало видение. Это было трепетное сияние, длившееся всего мгновение: он увидел лицо праматери, склоненное над бездной жизни, взиравшее с отрешенной улыбкой, прекрасной и страшной, на рождение, на смерть, на цветы, на шелестящие осенние листья, на искусство, на тлен.
Для нее, праматери, было все равно, надо всем, подобно луне, царила ее жуткая улыбка; впавший в уныние Гольдмунд был ей так же люб, как распростертый на мостовой рынка карп, а гордая холодная дева Лизбет так же мила, как разбросанные в лесу кости Виктора, страстно желавшего когда-то украсть у него дукат.
Вот вспышка погасла, таинственное лицо праматери исчезло. Но бледное его сияние продолжало еще мерцать в душе Гольдмунда, волна жизни, боли, щемящей тоски прокатилась через его сердце. Нет, нет, он не желал сытого счастья других: рыботорговцев, горожан, деловых людей. Черт бы их побрал! Ах, это мерцающее бледное лицо, этот преисполненный зрелости позднего лета рот, по суровым губам которого мелькнула, подобно ветерку и лунному свету, эта невыразимая улыбка смерти!
Гольдмунд подошел к дому мастера, было около полудня, он подождал, пока не услышал, что Никлаус закончил работу в мастерской и пошел мыть руки. Тогда он вошел к нему в дом.
— Позвольте мне сказать вам несколько слов, мастер, это можно сделать, пока вы моете руки и надеваете сюртук. Я жажду глотка истины, я хотел сказать вам кое-что, что могу сказать именно теперь, и никогда больше. Со мной происходит такое, о чем мне необходимо поговорить с кем-нибудь, и вы единственный человек, который, возможно, поймет меня. Я взываю не к тому, кто имеет славную мастерскую и получает все почетные заказы от городов и монастырей в округе, у кого есть два помощника и прекрасный, богатый дом. Я обращаюсь к человеку, сделавшему некогда для одного монастыря фигуру Божьей Матери, самое прекрасное из известных мне произведений. Именно этого человека я любил и почитал, стать подобным ему казалось для меня наивысшей целью на земле. И вот теперь я сделал фигуру Иоанна, и он не так совершенен, как ваша Божья Матерь, но он таков, какой он есть. Другую фигуру я не буду делать, у меня нет перед глазами никакого образа, который покорил бы меня и требовал воплощения. Вернее, есть один далекий священный образ, который я когда-нибудь воплощу в фигуре, но сегодня я еще не в состоянии сделать это. Для этого мне нужно еще больше узнать и пережить. Может быть, я сделаю это через три, четыре года, или через десять лет, или еще позднее, или даже никогда. Но до тех пор, мастер, мне не хотелось бы заниматься ремеслом, лакировать фигуры и украшать резьбой кафедры, вести жизнь ремесленника в мастерской и зарабатывать деньги, становясь таким же, как все. Нет, этого я не хочу, я хочу жить и странствовать, чувствовать лето и зиму, смотреть на мир и его красоту, испытывать его ужасы. Хочу страдать от голода и жажды, хочу освободиться от всего, чем жил здесь и чему научился у вас, освободиться от этого. Мне, правда, хотелось бы сделать что-нибудь столь же прекрасное и глубоко трогающее сердце, как ваша Божья Матерь, но становиться таким, как вы, и жить так, как вы, я не хочу.
Мастер уже вымыл и вытер руки, теперь он повернулся и посмотрел на Гольдмунда. Его лицо было строгим, но не рассерженным.
— Ты говорил, — сказал он, — я слушал. Ну и довольно. Я не жду, что ты придешь работать, хотя дела много. Мне хотелось бы обсудить с тобой кое-что, дорогой Гольдмунд, не теперь, через несколько дней. Пока можешь проводить время как хочешь. Видишь ли, я много старше тебя и имею кое в чем опыт. Я думаю иначе, чем ты, но понимаю тебя и знаю, что ты имеешь в виду. Через два-три дня я тебя позову. Мы поговорим о твоем будущем, у меня есть разные планы. А пока потерпи! Я достаточно хорошо знаю, как бывает, когда закончишь дорогую для сердца вещь, мне знакома эта пустота. Она пройдет, поверь мне.
Гольдмунд, неудовлетворенный, убежал прочь. Мастер был добр к нему, но чем он мог помочь?
На реке он знал одно место, там было неглубоко, и вода текла по дну, полному рухляди и отбросов: из домов рыбацкого предместья в реку бросали всякую дрянь. Туда он и пошел, сел на край набережной, глядя вниз на воду. Воду он очень любил, любая вода влекла его к себе. А если смотреть отсюда вниз сквозь струи, подобные хрустальным нитям, на темное неясное дно, то здесь и там видно что-то сверкающее приглушенным золотым блеском и манящее, какие-то неузнаваемые предметы, то ли осколок тарелки, то ли выброшенный прогнувшийся серп, то ли яркий гладкий камень или покрытая глазурью черепица, это могла быть и иловая рыба, жирный налим или красноперка, вертевшаяся там, внизу, и на какой-то момент поймавшая яркими плавниками и чешуей луч света, — никогда нельзя было точно определить, что это такое, но всегда это было волшебно прекрасно и заманчиво — этот краткий приглушенный блеск затонувших сокровищ на черном дне. Такими, как эта маленькая тайна в воде, казалось ему, были все настоящие тайны, все действительные, подлинные образы души: у них не было очертаний, не было формы, их можно было только предчувствовать, подобно далекой прекрасной возможности, они были сокрыты и многозначны. Как там, в сумраке зеленой речной глубины, на трепетные мгновения вспыхивало что-то невыразимо золотое или серебряное, какое-то Ничто, сулившее, однако, блаженнейшие обещания, так забытый профиль какого-нибудь человека, увиденный снизу наполовину, мог быть иной раз предвестником чего-то бесконечно прекрасного или неслыханно печального, так и ночной фонарь, качаясь под повозкой, рисует на каменных стенах огромные вращающиеся тени колесных спиц, представляя этой игрой теней зрелища, столь полные происшествий и событий, что вмещают всего Вергилия. Из такого же неясного магического материала были сотканы ночные сновидения, некое Ничто, вбиравшее в себя все образы мира, вода, в кристалле которой уживались формы всех людей, животных, ангелов и демонов, как всегда поджидавшие нас возможности.
Снова погрузился он в игру, потерянно уставившись в струящуюся реку, видел в бесформенных блестках, дрожащих на дне, царские короны и обнаженные женские плечи. Когда-то в Мариабронне, вспомнилось ему, он увидел в латинских и греческих буквах подобные формы и волшебство превращений. Не говорил ли он тогда об этом с Нарциссом? Ах, когда же это было, сколько столетий тому назад? Ах, Нарцисс! Чтобы увидеть его, чтобы часок поговорить с ним, подержать его руку, услышать его спокойный рассудительный голос, он охотно отдал бы оба своих золотых дуката.
Почему эти вещи были так прекрасны, это золотое свечение под водой, эти тени и предчувствия, все эти нереальные фантастичные явления, — почему же все-таки они были так невыразимо прекрасны и благодатны, будучи полной противоположностью тому прекрасному, что мог сделать художник? Потому что ведь красота тех безымянных вещей была без всякой формы и заключалась целиком лишь в тайне, а в произведениях искусства было как раз обратное: они были исключительно формой, они говорили совершенно ясно, ничего не было более непреложно ясного и определенного, чем линия нарисованной головы или вырезанного из дерева рта. Точно, безукоризненно точно мог он при желании срисовать нижнюю губу или веки с фигуры Божьей Матери Никлауса: там не было ничего неопределенного, меняющегося, ускользающего.
Гольдмунд самозабвенно размышлял об этом. Ему было неясно, как же можно, чтобы самое что ни на есть определенное и оформленное действовало на душу совершенно так же, как самое неуловимое и бесформенное. Но одно все-таки стало ему ясно в результате этих размышлений, а именно почему столь многие безупречные и добротно сделанные произведения искусства ему совсем не нравились и, несмотря на определенную красивость, были скучны и почти ненавистны. Мастерские, церкви, дворцы были полны таких досадных произведений искусства, он сам участвовал в работе над некоторыми из них. Они глубоко разочаровывали, потому что, пробуждая стремление к высшему, все-таки не удовлетворяли его, так как в них не было главного — тайны. Того общего между мечтой и произведением высокого искусства тайны.