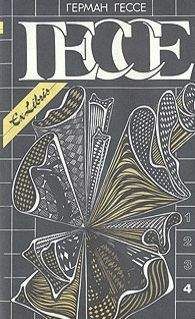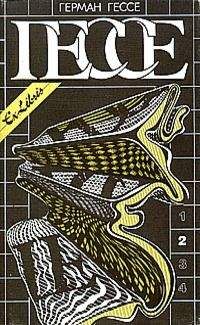Герман Гессе - Собрание сочинений в четырех томах. Том 3
Гольдмунд самозабвенно размышлял об этом. Ему было неясно, как же можно, чтобы самое что ни на есть определенное и оформленное действовало на душу совершенно так же, как самое неуловимое и бесформенное. Но одно все-таки стало ему ясно в результате этих размышлений, а именно почему столь многие безупречные и добротно сделанные произведения искусства ему совсем не нравились и, несмотря на определенную красивость, были скучны и почти ненавистны. Мастерские, церкви, дворцы были полны таких досадных произведений искусства, он сам участвовал в работе над некоторыми из них. Они глубоко разочаровывали, потому что, пробуждая стремление к высшему, все-таки не удовлетворяли его, так как в них не было главного — тайны. Того общего между мечтой и произведением высокого искусства тайны.
Далее Гольдмунд думал: тайна — вот что я люблю, чему буду следовать, что много раз видел блистающим и что, если удастся, захочу изображать и как художник заставлять говорить. Это образ великой рождающей женщины, образ праматери, и тайна ее не в той или иной детали, как у другой какой-либо фигуры, не в особой полноте или худобе, грубоватости или изысканности, силе или приятности, а в том, чтобы в этом образе нашли примирение и ужились величайшие противоположности мира: рождение и смерть, добродетели и жестокость, жизнь и уничтожение. Если эту фигуру я выдумал себе и она лишь игра моего воображения или плод честолюбивого желания художника, то нечего и жалеть о ней, я смогу признать ошибку и позабыть ее. Но праматерь — это же не вымысел, я же ее не выдумал, а видел! Она живет во мне, я постоянно встречаюсь с ней. Впервые я почувствовал ее, когда в деревне зимней ночью должен был держать светильню над кроватью рожающей крестьянки, тогда зародился во мне этот образ. Часто он бывает далеко и теряется на долгое время, но вдруг вспыхивает опять, как, например, сегодня. Образ моей собственной матери, когда-то самой любимой, полностью превратился в этот новый образ, он внутри него, как косточка в вишне.
Ясно чувствовал он теперь свое сиюминутное положение, страх принять решение. Не менее, чем тогда, при прощании с Нарциссом, он был на важном пути: на пути к матери. Возможно, когда-нибудь из матери получится воплощенный образ, видимый для всех, произведение его рук. Возможно, там была цель, там был смысл его жизни. Возможно. Он этого не знал. Но одно знал он: следовать за матерью, быть на пути к ней, чувствовать себя призванным ею — это было хорошо, это была жизнь. Возможно, он никогда не сможет создать ее образ, возможно, она навсегда останется мечтой, предчувствием, приманкой, золотым проблеском святой тайны. Ну что ж, во всяком случае он должен следовать за ней, ей предоставить свою судьбу, она была его звездой.
И вот решение уже созрело, все стало ясно. Искусство — прекрасное дело, но оно не было ни божеством, ни целью, для него — нет; не искусству должен он следовать, а только зову матери. Что пользы делать свои пальцы все более искусными? На примере мастера Никлауса видно, куда это ведет. Это ведет к славе и именитости, к деньгам и оседлой жизни, к отмиранию и гибели тех внутренних сил, для которых только и доступна тайна. Это ведет к изготовлению милых дорогих игрушек, ко всякого рода богатым алтарям и кафедрам со святыми Себастьянами, к ангельским головкам в локонах, по четыре талера за штуку. Ах, да чего там, золото на глазах какого-нибудь карпа или прелестный тонкий серебряный пушок на краешке крыла бабочки были бесконечно более прекрасными, живыми и драгоценными, чем целый зал, набитый подобными изделиями.
Какой-то мальчик спускался, напевая, по набережной, время от времени его пение умолкало и он откусывал от большого куска белого хлеба, который нес в руке. Гольдмунд увидел его и попросил кусочек, отщипнул от мякиша двумя пальцами и скатал маленькие шарики. Склонившись через парапет, он бросал их медленно один за другим в воду, глядя, как светлые шарики опускаются в темную воду и, подхваченные быстрыми теснящимися головами рыб, исчезают в одном из ртов. Глубоко удовлетворенный, Гольдмунд смотрел, как шарик за шариком опускался и исчезал. Потом он почувствовал голод и отыскал одну из своих возлюбленных, которая была прислугой в доме мясника и которую он называл «повелительницей колбас и окороков». Привычным свистом он вызвал ее к окну кухни, намереваясь получить кое-что из съестного, чтобы, спрятав у себя, проглотить это где-нибудь там, за рекой, на одном из виноградников, где красная жирная земля ярко блестела под сочной листвой винограда и где весной цвели маленькие голубые гиацинты, так нежно пахнувшие плодом.
Но сегодня, кажется, был день решений и прозрений. Когда Катрин появилась в окне с улыбкой на крепком, несколько грубоватом лице, когда он уже протянул руку, чтобы подать ей привычный знак, ему вдруг вспомнились прошлые их встречи, когда он так же стоял здесь в ожидании. И с наводящей скуку отчетливостью он сразу же увидел наперед все, что произойдет в следующие минуты: как она, узнав его знак, отпрянет от окна, чтобы вскоре появиться у черного хода дома с какой-нибудь копченостью в руке, как он возьмет это, слегка погладив ее и прижимая к себе, потому что она этого ждет; и вдруг ему показалось бесконечно глупым и отвратительным вновь вызывать всю эту машинальную последовательность часто переживавшегося и играть в ней свою роль: брать колбасу, чувствовать, как крепкая грудь прижимается к тебе, и слегка пожимать ее в знак ответного дарения. В ее добром простом лице ему увиделась вдруг бездушная привычка, в ее приветливой улыбке — что-то слишком часто виденное, что-то машинальное и лишенное тайны, что-то недостойное его. Он не закончил привычного взмаха рукой, на его лице застыла улыбка. Любил ли он ее еще, желал ли ее еще по-настоящему? Нет, слишком часто он бывал здесь, слишком часто видел одну и ту же улыбку, отвечая на нее без сердечной привязанности. Но то, что еще вчера он мог делать не задумываясь, сегодня вдруг стало для него больше невозможно. Девушка еще стояла и смотрела, когда он повернулся и исчез в переулке, полный решимости никогда больше не показываться тут. Пусть другой гладит эту грудь! Пусть другой ест эту вкусную колбасу! Вообще, чего здесь в этом сытом самодовольном городе только не съедают и не проматывают изо дня в день! Как ленивы, как избалованны, как привередливы были эти жирные горожане, для которых каждый день закалывали столько свиней и телят и вытаскивали столько красивых бедных рыб! А сам он — как сам-то он был избалован и испорчен, как отвратительно похож стал на этих толстых горожан! Когда бредешь, бывало, по заснеженному полю, и ссохшаяся слива или старая корка хлеба кажутся вкуснее, чем при здешнем благополучии все яства целого застолья собратьев по цеху. О странствие, о свобода, о роща, освещенная луной, и осторожно разглядываемый след зверя в белесой от утренней росы траве! Здесь, в городе, у оседлых, все шло так легко и так мало стоило, даже любовь. Хватит с него, наконец, плевал он на все это! Жизнь здесь потеряла свой смысл, это была уже кость без мозга. Она была прекрасной и имела смысл, пока мастер был для него образцом, а Лизбет — принцессой; она была сносной, пока он работал над своим Иоанном. Теперь с этим покончено, аромат пропал, цветок увял. Сильной волной захлестнуло его чувство бренности, которое часто так глубоко терзало и так глубоко захватывало его. Быстро отцветало все, быстро удовлетворялось любое желание, и ничего не оставалось, кроме костей и пыли. И все-таки одно оставалось: вечная мать, древняя и вечно юная, с печальной и жесткой улыбкой любви. Опять увидел он ее на какой-то момент — великаншу, со звездами в волосах, мечтательно сидящую на краю мира; рассеянной рукой обрывала она цветок за цветком, жизнь за жизнью, заставляя их медленно падать в бездну.
В эти дни, пока Гольдмунд созерцал, как бледнеет оставшийся позади отцветший период его жизни, и в скорбном упоении прощания бродил по хорошо знакомой местности, мастер Никлаус прилагал немалые усилия, чтобы обеспечить его будущее и навсегда сделать этого беспокойного гостя оседлым. Он уговорил цех выдать Гольдмунду свидетельство о получении звания мастера и обдумывал возможность прочно привязать его к себе в качестве не подчиненного, а компаньона, советоваться с ним, вместе выполнять все большие заказы и делить доходы. В этом был, пожалуй, риск, из-за Лизбет тоже, потому что молодой человек, конечно, скоро стал бы его зятем. Но фигуру, подобную Иоанну, никогда не сделать даже лучшему из всех помощников, которых когда-либо держал Никлаус, сам же он стар и все беднее на идеи и творчество, а видеть свою знаменитую мастерскую опустившейся до обыкновенного ремесленничества он не хотел. Нелегко будет с этим Гольдмундом, но надо рискнуть.
Так рассчитывал озабоченный мастер. Он расширит для Гольдмунда заднюю мастерскую и освободит для него комнату наверху, подарит ему к приему в цех новое дорогое платье. Осторожно выспросил он и мнение Лизбет, которая с того обеда ждала чего-то похожего. И, смотри-ка, Лизбет была не против. Если парень станет оседлым и получит звание мастера, то он ее устроит. Значит, и здесь не было препятствий. И если мастеру Никлаусу и ремеслу не вполне удалось пока приручить этого цыгана, то уж Лизбет доведет дело до конца.