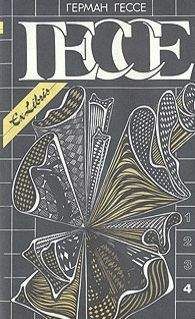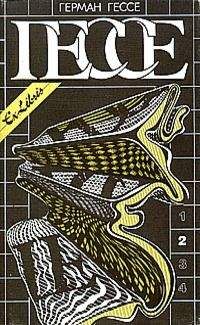Герман Гессе - Собрание сочинений в четырех томах. Том 3
Гольдмунд стоял и созерцал свое творение. Если поначалу это созерцание было благоговейным воспоминанием о ранней юности и первой дружбе, то закончилось оно бурей забот и тяжелыми думами. Вот здесь стоит его творение, и прекрасный апостол останется, и его нежному цветению не будет конца. Он же, тот, кто создал его, должен теперь проститься со своим творением, ибо завтра оно не будет больше принадлежать ему, не будет больше для него прибежищем, утешением и смыслом жизни. Он остался опустошенным. И ему показалось, что лучше всего было бы сегодня же проститься не только со своим Иоанном, но и с мастером, с городом и с искусством. Здесь ему больше нечего делать: в его душе не было никаких образов, которые он мог бы воплотить. Тот желанный образ образов, фигура матери человечества, был пока для него недостижим, так будет продолжаться еще долго. Что ж, ему опять полировать фигурки ангелов и делать орнаменты?
Он вскочил и пошел к мастерской Никлауса. Тихо вошел и остановился у двери, пока мастер не заметил его и не спросил:
— Ну что, Гольдмунд?
— Моя фигура готова. Может быть, вы до обеда пройдете взглянуть на нее?
— Конечно, конечно, прямо сейчас.
Вместе они прошли в сарай, оставили дверь открытой, чтобы было светлее. Никлаус давно уже не видел фигуры, предоставив Гольдмунду работать самостоятельно. Теперь он рассматривал ее с молчаливым вниманием, его замкнутое лицо стало прекрасным и просветленным, Гольдмунд увидел радость в его строгих голубых глазах.
— Хорошо, — сказал мастер. — Очень хорошо. Это твоя пробная работа на звание подмастерья, Гольдмунд, вот ты и выучился. Я покажу твою фигуру людям нашей гильдии и потребую, чтобы тебе за нее присвоили звание мастера и выдали свидетельство, ты заслужил его.
Гольдмунд не ценил гильдии, но знал, сколь высокое признание значили слова мастера, и был рад.
Медленно обойдя фигуру Иоанна еще раз, Никлаус сказал со вздохом:
— Эта фигура полна смирения и ясности, она серьезна, полна счастья и покоя. Можно подумать, что ее сделал человек, в чьем сердце светло и радостно.
Гольдмунд улыбнулся:
— Вы знаете, что я изобразил в этой фигуре не себя, а своего любимого друга. Это он привнес ясность и покой в образ, не я. Ведь это, собственно, не я создал образ, а он вложил его в мою душу.
— Пусть так, — сказал Никлаус. — Это тайна, как возникает такой образ. Не принижая себя, скажу, однако: я сделал много фигур, которые далеко позади твоей, не по искусству и тщательности, а по истинности. Ну да ты и сам хорошо знаешь, что такое создание нельзя повторить. Это — тайна.
— Да, — сказал Гольдмунд, — когда фигура была готова и я вгляделся в нее, то подумал: что-нибудь подобное мне не сделать вновь. И поэтому я считаю, мастер, что вскоре опять отправлюсь странствовать.
Удивленно и негодующе Никлаус взглянул на него, его глаза опять стали строгими:
— Мы еще поговорим об этом. Для тебя работа только начинается. Вероятно, теперь не время убегать. Но на сегодня ты свободен, а к обеду будь моим гостем.
К обеду Гольдмунд пришел, причесавшись и умывшись, в праздничном костюме. На этот раз он знал, как много значило и какой редкой милостью было приглашение мастера к столу. Однако, когда он поднимался по лестнице к залу, заставленному фигурами, сердце его было далеко не так полно благоговения и смущенной радости, как в тот раз, когда он с бьющимся сердцем переступил этот порог, за которым царила тишина и красота.
Лизбет тоже принарядилась и надела на шею ожерелье с камнями, а к столу помимо карпа и вина был приготовлен сюрприз: мастер подарил Гольдмунду кожаный кошелек, в котором лежали два золотых — плата за изготовленную фигуру.
На этот раз Гольдмунд не сидел молча, в то время как беседовали друг с другом отец и дочь. Оба обращались к нему и чокались с ним бокалами. Гольдмунд усердно работал глазами, желая воспользоваться случаем, чтобы получше рассмотреть красивую девушку с благородным и несколько высокомерным лицом, и его глаза не скрывали, как сильно она ему нравилась. Она была вежлива с ним, но не краснела и не становилась теплее, и это разочаровывало его. Опять ему от души захотелось заставить это прекрасное неподвижное лицо говорить и выдать свою тайну.
Он поблагодарил за обед, побыл немного в прихожей с резными фигурами и пошел бродить по городу, бесцельно и праздно. Он был весьма почтен мастером, сверх всяких ожиданий. Почему это не радовало его? Почему во всем этом почтении было так мало праздничности?
Следуя прихоти, он нанял лошадь и поскакал в монастырь, где когда-то впервые увидел творение мастера и услышал его имя. Это было только два-три года тому назад и тем не менее так невообразимо давно. Он зашел в монастырскую церковь и долго смотрел на Божью Матерь; и сегодня эта фигура восхитила и покорила его; она была прекраснее его Иоанна, она была равна ему по глубине и тайне и превосходила его по искусности, свободному бесплотному парению. Теперь он заметил в этой работе детали, которые видны лишь художнику: спокойные мягкие движения в одеянии, смелость в изображении длинных кистей рук и пальцев, тонкое использование случайностей в фактуре дерева — все эти красоты, хотя не шли в сравнение с целым, с простотой и глубиной духовного видения, тоже существовали, отличались изяществом и были под силу лишь одаренному человеку, основательно знавшему толк в ремесле. Чтобы суметь сделать нечто подобное, нужно было не только носить в душе образы, но и иметь наметанный глаз и на редкость набитую руку. Так, может быть, стоило поставить на службу искусству всю свою жизнь за счет свободы, за счет сильных переживаний лишь для того, чтобы когда-нибудь создать нечто подобное и возможное не только благодаря пережитому, увиденному, перечувствованному в любви, но и благодаря предельно уверенному мастерству? Над этим стоило подумать.
Гольдмунд вернулся в город поздно ночью на загнанной лошади. Трактир еще был открыт, там он поел хлеба и выпил вина, затем поднялся в свою комнату у рыбного рынка, в разладе с собой, с головой, полной вопросов, полной сомнений.
Глава двенадцатая
На другой день Гольдмунду не хотелось идти в мастерскую. Как уже бывало не раз в таких случаях, он слонялся по городу. Смотрел, как хозяйки и служанки идут на рынок, остановился нарочно возле торговцев рыбой, наблюдая за ними и их дюжими женами, выставлявшими и расхваливавшими свой товар, глядел, как они вытаскивали из своих бочек и предлагали прохладных серебряных рыб, которые с мучительно раскрытыми ртами и застывшими от страха золотыми глазами отдавались смерти или яростно и отчаянно сопротивлялись ей. Уже не в первый раз его охватило сострадание к этим животным и мрачное негодование против людей: почему они были так грубы и жестоки, невероятно глупы и тупы, почему все они ничего не видели — ни рыбаков с их женами, ни торгующихся покупателей, почему не видели этих ртов, этих предсмертно испуганных глаз и дико бившихся хвостов, этой ужасной бесполезной борьбы отчаяния, этого невыносимого превращения полных тайны, дивно прекрасных рыб, охваченных последним тихим содроганием под умирающей кожей и лежавших мертвыми, угасшими, распростертыми — жалкими кусками мяса на потребу довольных обжор? Ничего они не видели, эти люди, ничего не знали и не замечали, ничто не трогало их! Все равно, было ли это распростертое перед ними бедное милое животное или выраженные мастером в лике святого надежды, благородство, страдания и весь темный, душащий страх человеческой жизни, — ничего они не видели, ничто не захватывало их! Все они были довольны или заняты важным, как им казалось, делом; спешили, общались друг с другом, крича, смеясь и отрыгивая; шумели, шутили, вопили из-за пары пфеннигов, и всем было хорошо, все у них было в порядке, и они были в высшей степени довольны собой и окружающим миром. Свиньи были они, ах, много хуже и безобразнее свиней! Правда, он сам достаточно часто бывал среди них, чувствовал себя радостно среди им подобных, волочился за девушками, смеясь и безо всякого ужаса брал с тарелки жареную рыбу. Но все снова и снова, часто совершенно неожиданно, как по волшебству, радость и покой оставляли его, это сытое самодовольное наслаждение с него спадало, спадала эта самоудовлетворенность, значительность и ленивый сон души, его срывало прочь, в одиночество и раздумья, странствия, чтобы видеть страдание, смерть, сомнительность всей этой суеты, уставясь взглядом в бездну. Иногда затем из такого погружения в созерцание безнадежной бессмысленности и ужаса в нем вдруг расцветала радость, вспыхивала влюбленность, желание спеть прекрасную песню или рисовать, или, вдыхая аромат цветка, играя с котенком, он вновь обретал детское согласие с жизнью. И теперь оно вернулось бы, завтра или послезавтра, и мир опять стал бы добрым и прекрасным. Пока же — печаль, раздумья, безнадежная, щемящая любовь к умирающим рыбам, вянущим цветам, ужас перед тупой скотской суетностью глазеющих и ничего не видящих людей. В такие минуты глубокой удрученности ему всегда мучительно вспоминался бродяга Виктор, которому он всадил когда-то нож меж ребер и которого оставил окровавленным на еловых ветках, и ему хотелось знать, что, собственно, теперь стало с этим Виктором, съели ли его звери без остатка, сохранилось ли что-нибудь от него. Да, сохранилось, пожалуй, пара горстей волос. А кости — что стало с ними? Сколько же пройдет времени, десятки лет или только годы, пока и они потеряют свою форму и станут землей?