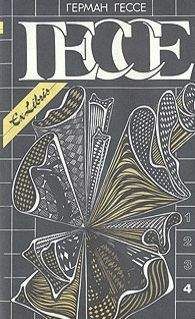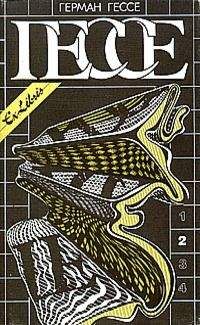Герман Гессе - Собрание сочинений в четырех томах. Том 3
Остаток юношеской прелести и мальчишеской детскости, из-за которой он столь многим нравился, Гольдмунд за эти годы постепенно утратил. Он стал красивым и сильным мужчиной, весьма желанным для женщин, мало располагавшим к себе мужчин. Да и характер его, его внутренний мир очень изменились с тех пор, как Нарцисс пробудил его от блаженного сна в монастырские годы и с тех пор, как мир и странствия помяли его. Прелестный, всеми любимый, кроткий и услужливый монастырский ученик давно стал другим человеком. Нарцисс его пробудил, женщины наделили знаниями, странствия сдули с него нежный пух. Друзей у него не было, сердце его принадлежало женщинам. Они легко завоевывали его, достаточно было просящего взгляда. Он с трудом мог противиться женщине, отзываясь на малейший намек. И его, так тонко чувствовавшего красоту и всегда любившего больше всего юных девушек в первую пору их весны, трогали и соблазняли подчас и малопривлекательные и уже немолодые женщины.
Иной раз на танцах он привязывался к какой-нибудь стареющей и унылой девице, никому не желанной и привлекавшей его из чувства сострадания, и не только сострадания, но и вечно присутствовавшей жажды нового. Как только он начинал увлекаться какой-нибудь женщиной — длись это недели или всего час, — она становилась для него прелестной, он отдавался ей целиком. И опыт научил его, что любая женщина прекрасна, может сделать счастливым, что невзрачная и пренебрегаемая другими способна на необыкновенный пыл и готовность, а увядающая — больше на материнскую, печально сладостную нежность, что у каждой женщины есть своя тайна и свое очарование, раскрывать которое — блаженство. В этом все женщины были равны. Любой недостаток в возрасте или красоте уравновешивался какой-нибудь особенностью. Только, разумеется, не всякая удерживала его одинаково долго. По отношению к молоденькой и самой красивой он бывал ни на йоту более преисполнен любви и благодарности, чем по отношению к дурнушке, он никогда не любил вполсердца. Но были женщины, которые по-настоящему привязывали его к себе лишь через три или десять любовных ночей, другие уже после первого раза исчерпывали себя и бывали забыты.
Любовь и сладострастие казались ему единственными, чем можно согреть жизнь, наполнив ее настоящим значением. Он не знал честолюбия: епископ и нищий были равны в его глазах; приобретение благ и обладание ими тоже не привлекали его, он презирал их, он никогда не принес бы ни малейшей жертвы и беспечно бросался заработанными деньгами, временами немалыми. Любовь женщин, игра полов — это стояло у него на первом месте, и семя нередкой его печали и пресыщенности росло из опыта мимолетности и непостоянства сладострастия. Горячая, быстротечная, восхитительная вспышка вожделения, его короткое чувственное горение, его быстрое угасание — это, казалось ему, является сутью любого переживания, это стало для него символом всех наслаждений и всех страданий в жизни. Печали и созерцанию бренности он мог отдаваться с такой же самоотверженностью, как и любви, и даже эта грусть была любовью, даже она была сладострастием. Как любовное наслаждение, когда пройдет миг его наивысшего, блаженнейшего напряжения, должно со следующим вздохом непременно исчезнуть, опять умереть, так и самое глубокое одиночество и поглощенность печалью непременно вдруг сменятся желанием, новой увлеченностью светлой стороной жизни. Смерть и наслаждение были одно. Матерью жизни можно было назвать любовь или страсть, но ею можно было назвать также могилу и тлен. Матерью была Ева, она была источником света и источником смерти, она вечно рождала, вечно убивала, в ней любовь и жестокость были едины, и ее образ становился для него олицетворением и священным символом, чем дольше он носил его в себе.
Он узнал не с помощью слов и ума, а благодаря более глубокому знанию крови, что его путь ведет к матери, к сладострастию и к смерти. Отцовская сторона жизни, Дух, воля, не были его стихией. То была область Нарцисса, только теперь Гольдмунд вполне понял слова друга и увидел в нем свою противоположность, и это он тоже явственно передавал в фигуре своего Иоанна. Можно было тосковать по Нарциссу до слез, можно было чудесно мечтать о нем, но достичь его, стать им было нельзя.
Каким-то скрытым чувством Гольдмунд провидел и тайну своего искусства, своей глубокой любви к искусству, своей подчас дикой ненависти к нему. Без размышлений, чутьем он предугадывал в разнообразных подобиях: искусство было слиянием отцовского и материнского начал мира, Духа и крови; оно могло начаться в самом что ни на есть чувственном элементе и привести к предельно отвлеченному или, взяв свое начало в чистом мире идей, завершиться в наиполнокровнейшей плоти. Все произведения искусства, поистине возвышенные, а не просто хорошие поделки, к примеру Божья Матерь мастера, были полны вечной тайны, все подлинное и несомненное, что было создано художником, имело опасное улыбающееся двойное лицо, женско-мужское, где инстинктивное совмещалось с чистой духовностью. Но больше всего эта двойственность проявилась бы в матери Еве, если бы ему когда-нибудь удалось создать ее образ.
В искусстве и в бытии художника виделась Гольдмунду возможность некоего примирения своих глубочайших противоречий или, по крайней мере, замечательного, всегда нового подобия двойственности своей натуры. Но искусство не было просто чистым даром, им нельзя было обладать безвозмездно, оно стоило очень дорого, оно требовало жертв. Более трех лет жертвовал Гольдмунд ему самым высшим и насущнейшим, что ставил наряду с любовным наслаждением: свободой. Независимость, блуждание в безбрежности, вольные странствия без семьи по жизни — все это он отдал. Пусть другие считают его своенравным, строптивым и достаточно самовластным, когда он иной раз в неистовстве пренебрегает работой в мастерской, — для него самого эта жизнь была рабством, тяготившим его подчас до невыносимости. И не мастеру пришлось бы подчиняться, не будущему, не естественным потребностям, а самому искусству. Искусство, такое, казалось бы, духовное божество, требовало стольких ничтожных вещей! Оно требовало крыши над головой, для него нужны были инструменты, дерево, глина, краски, золото, оно требовало труда и терпения. Для него он пожертвовал свободой лесов, упоением просторами, терпким наслаждением опасностью, гордостью бедняков и должен был, скрепя сердце и мучаясь, приносить все новые жертвы.
Некоторую часть пожертвованного он обретал вновь, когда удавалось в какой-то мере отомстить рабскому порядку и оседлому образу жизни похождениями, связанными с любовью, потасовками с соперниками. Вся подавляемая необузданность, вся ущемленная сила его натуры устремлялась, подобно чаду, к этому вынужденному выходу: он прослыл драчуном, которого все боялись. По пути к какой-нибудь девушке или возвращаясь с танцев, подвергнуться вдруг нападению в темном переулке; получить несколько ударов палкой, молниеносно развернуться и перейти от защиты к нападению; с трудом переводя дыхание, прижать тоже запыхавшегося противника; ударить его кулаком в подбородок; оттаскать за волосы или схватить за горло, чуть ли не придушив, — это доставляло ему удовольствие и излечивало на какое-то время от дурного настроения. Да и женщинам это нравилось.
Все это с избытком заполняло его дни и все имело смысл, пока длилась работа над апостолом Иоанном. Она тянулась долго, и последняя тонкая отделка лица и рук проходила в торжественной и выдержанной собранности. В небольшом сарае для дров позади мастерской заканчивал он работу. Наступил час, когда фигура была готова. Гольдмунд принес метлу, тщательно подмел сарай, смахнул последнюю деревянную пыль с волос своего Иоанна и долго стоял потом перед ним — час, а то и дольше, полный торжественного чувства редкостного переживания величия; может, оно когда-нибудь повторится в его жизни, а может, и останется единственным. Мужчина в день свадьбы или в день посвящения в рыцари, женщина после рождения первенца, пожалуй, чувствуют подобное движение в сердце, высокое предназначение, глубокую серьезность и одновременно уже тайный страх перед моментом, когда это высокое и единственное будет пережито и пройдет, заняв свое место, и поглотится обычным ходом дней.
Он встал и увидел перед собой своего друга Нарцисса, руководителя своей юности, с поднятым, как бы прислушивающимся лицом, изображенным в одеянии и с атрибутами любимого ученика Христа, с выражением покоя, преданности и благоговения, которое было подобно зарождающейся улыбке. Этому прекрасному, благочестивому и одухотворенному лицу, этой стройной, как бы парящей фигуре, этим изящно и благочестиво поднятым длинным кистям рук были не чужды боль и смерть, но чужды им были отчаяние, смятение и протест. Душа за этими благородными чертами могла быть радостной или печальной. Но она была настроена на чистоту, она не страдала разладом.