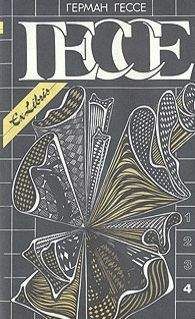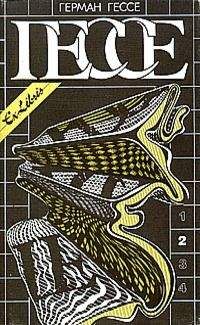Герман Гессе - Собрание сочинений в четырех томах. Том 3
Так рассчитывал озабоченный мастер. Он расширит для Гольдмунда заднюю мастерскую и освободит для него комнату наверху, подарит ему к приему в цех новое дорогое платье. Осторожно выспросил он и мнение Лизбет, которая с того обеда ждала чего-то похожего. И, смотри-ка, Лизбет была не против. Если парень станет оседлым и получит звание мастера, то он ее устроит. Значит, и здесь не было препятствий. И если мастеру Никлаусу и ремеслу не вполне удалось пока приручить этого цыгана, то уж Лизбет доведет дело до конца.
Таким образом, все было продумано и добрая приманка для птахи лежала приготовленной за силком. И вот однажды послали за Гольдмундом, который с тех пор не показывался, и он явился, опять приглашенный к столу, начищенный и причесанный, снова сидел в прекрасной, чуть-чуть слишком торжественной комнате, опять чокался с мастером и его дочерью, пока та не удалилась, и Никлаус заговорил о своем грандиозном плане и предложениях.
— Ты меня понял, — прибавил он к своим ошеломляющим откровениям, — и мне не нужно объяснять тебе, что, пожалуй, никогда молодому человеку, не отбывшему предписанного времени для обучения, не приходилось так быстро становиться мастером и попадать в теплое гнездышко. Твое счастье устроилось, Гольдмунд.
Удивленно и смущенно посмотрел Гольдмунд на своего мастера и отодвинул бокал, еще наполовину полный. Он, собственно, ждал, что Никлаус побранит его слегка за прогулы и предложит остаться у него в качестве помощника. Ему было грустно и неловко сидеть так перед мастером. Он не сразу нашелся что сказать.
Мастер, уже с несколько напряженным и разочарованным лицом, поскольку его почетное предложение не было принято тотчас с радостью и смирением, встал и сказал:
— Ну так, предложение мое для тебя неожиданно; может, ты хочешь сначала обдумать его? Правда, это немного задевает меня, я решил, что доставлю тебе большую радость. Но изволь, подумай какое-то время.
— Мастер, — сказал Гольдмунд, подыскивая слова, — не сердитесь на меня! Я благодарен вам от всего сердца за то, что вы так добры ко мне, и еще больше за то терпение, с которым вы учили меня. Я никогда не забуду, в каком я долгу перед вами. Но мне не нужно времени на размышление: я давно решился.
— На что решился?
— Я принял решение еще до вашего приглашения, и мне даже не могло прийти в голову, что вы сделаете мне такие почетные предложения. Я больше не останусь здесь, я ухожу странствовать.
Побледнев, Никлаус взглянул на него потемневшими глазами.
— Мастер, — сказал Гольдмунд, с трудом подбирая слова, — поверьте мне, я не хочу вас обидеть! Я сказал вам, на что решился. Это уже нельзя изменить. Я должен уйти прочь, я должен путешествовать, мне нужна свобода. Позвольте мне еще раз сердечно поблагодарить вас и давайте дружески простимся.
Он протянул ему руку, слезы подступили к горлу. Никлаус не взял его руки, лицо его стало белым, и он начал быстро ходить взад и вперед по комнате, все ускоряя от бешенства тяжелый шаг. Никогда еще Гольдмунд не видел его таким.
Потом мастер вдруг остановился, со страшным усилием овладел собой и процедил сквозь зубы, не глядя на Гольдмунда:
— Хорошо, иди! Но уходи тотчас же! Чтобы я больше тебя не видел! Чтобы я не сказал и не сделал чего-нибудь, в чем мог бы потом раскаиваться. Уходи!
Еще раз протянул Гольдмунд ему руку, мастер был уже готов плюнуть на поданную руку. Тогда Гольдмунд, тоже побледневший, повернулся, тихо вышел из комнаты, надел шапку, спустился вниз по лестнице, пробежав рукой по резным перилам, зашел в маленькую мастерскую во дворе, постоял на прощание перед своим Иоанном и покинул дом с болью в сердце, более глубокой, чем когда-то при расставании с домом рыцаря и бедной Лидией.
По крайней мере все прошло быстро! И не было сказано ничего лишнего! Это была единственная утешительная мысль, когда он выходил за порог, и вдруг улица и город увиделись ему в том превращенном, чужом виде, который принимают обычные вещи, когда наше сердце простилось с ними. Он бросил взгляд обратно на дверь дома — теперь чужого, закрытого для него.
Придя к себе, Гольдмунд постоял и начал собираться в дорогу. Правда, сборы предстояли недолгие: оставалось лишь попрощаться. Висела картина на стене, которую он нарисовал сам, нежная Мадонна, висели и лежали вещи вокруг, принадлежавшие ему, — летняя шляпа, пара башмаков для танцев, рулон рисунков, маленькая лютня, несколько фигурок из глины, кое-какие подарки от возлюбленных: букет искусственных цветов, рубиново-красный стакан, старый затвердевший пряник в виде сердца и тому подобная ерунда, хотя каждый предмет имел свое значение и историю и был дорог ему, став теперь обременительной рухлядью, потому что ничего из этого он не мог взять с собой. Рубиновый стакан он, правда, обменял у хозяина дома на крепкий добрый охотничий нож, который наточил во дворе на точильном камне, пряник раскрошил и покормил им кур на соседнем дворе, изображение Мадонны отдал хозяйке дома и получил за это в дар нужные вещи: старую кожаную дорожную сумку и достаточный запас съестного на дорогу. В сумку он сложил несколько рубашек, бывших у него, и несколько небольших рисунков, намотанных на палку, а также еду. Остальное пришлось оставить.
В городе было много женщин, с которыми нужно было бы проститься; у одной из них он только вчера ночевал, не сказав ей ничего о своих планах. Да, вот так хватает то да се за пятки, когда соберешься странствовать. Не надо принимать это всерьез. Он решил ни с кем не прощаться, кроме людей в доме. Он сделал это вчера, чтобы чуть свет отправиться в путь.
Несмотря на это кто-то утром встал, и, когда он собирался покинуть дом, его пригласили на кухню съесть молочного супа. Это была хозяйская дочь, ребенок лет пятнадцати, тихое болезненное создание с прекрасными глазами, но с поврежденным суставом в бедре, из-за чего она хромала. Ее звали Мария. С утомленным от бессонной ночи лицом, совершенно бледная, но тщательно одетая и причесанная, она угощала его в кухне горячим молоком и хлебом и казалась очень опечаленной тем, что он уходит. Он поблагодарил ее и сочувственно поцеловал на прощание в губы. Благоговейно, с закрытыми глазами приняла она его поцелуй.
Глава тринадцатая
В первые дни своего нового странствия, в жадном упоении вновь обретенной свободой Гольдмунд должен был снова учиться жить бесприютной и вневременной бродячей жизнью. Никому не подчиняясь, завися лишь от погоды и времени года, без всякой цели перед собой, без крыши над головой, ничего не имея и подвергаясь всяким случайностям, ведут бездомные свою детскую и смелую, жалкую и сильную жизнь. Они — сыны Адама, изгнанного из рая, и братья зверей невинных. Из рук неба берут они час за часом то, что им дается: солнце, дождь, туман, снег, тепло и стужу, благополучие и нужду; для них нет времени, нет истории, нет стремлений и тех странных кумиров развития и прогресса, в которых так отчаянно верят обладатели дома. Бродяга может быть нежным или суровым, ловким или неуклюжим, смелым или боязливым, но он всегда в душе ребенок, всегда живет первый день, с начала мировой истории, всегда руководствуется в жизни немногими простыми желаниями и нуждами. Он может быть умен или глуп; он может глубоко познать себя, познать, как хрупка и преходяща вся жизнь и как робко и пугливо несет все живое свою частицу теплой крови через холод мировых пространств, или он может лишь по-детски жадно следовать приказам своего бедного желудка — всегда он будет противником и смертельным врагом имущего и оседлого, который ненавидит его, презирает и боится, потому что не желает напоминаний обо всем этом: о мимолетности всего бытия, о постоянном увядании всей жизни, о неизбежной ледяной смерти, наполняющей всю вселенную вокруг нас.
Детскость бродячей жизни, ее материнское происхождение, ее отказ от закона и Духа, ее одиночество и тайная, всегда присутствующая близость смерти давно глубоко проникли в душу Гольдмунда и запечатлелись в ней. То, что в нём все-таки жили Дух и воля, что он все-таки был художником, делало его жизнь богатой и трудной. Любая жизнь ведь становится богатой и цветущей только благодаря раздвоению и противоречию. Что значил бы рассудок и благоразумие, не ведающие упоения, чем были бы чувственные желания, если бы за ними не стояла смерть, и чем была бы любовь без вечной смертельной вражды полов?
Лето и осень клонились к концу, трудно приходилось Гольдмунду в скудные месяцы, в упоении бродил он, когда наступала приятная, благоуханная весна, но времена года так быстро сменяли друг друга, так быстро высокое летнее солнце опускалось опять. Шел год за годом, и казалось, будто Гольдмунд забыл, что на земле есть что-то другое, кроме голода, и любви, и этой безмолвной жуткой торопливости времен года; казалось, он совершенно погрузился в материнский, инстинктивный, первобытный мир. Но каждый раз в своих грезах, раздумьях на отдыхе или при взгляде на цветущие и увядающие долины он был полон созерцания, был художником, страдал от мучительного желания заклинать Духом дивную текучую бессмыслицу жизни и превращать ее в смысл.