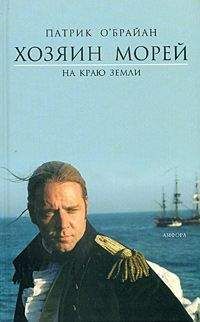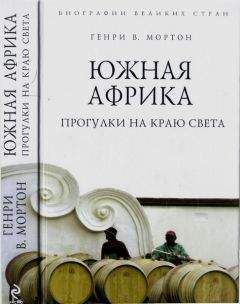Генри Бестон - Домик на краю земли
Довольно часто, когда приливы достигают большой высоты и завершается лунный месяц, полоса прибоя превращается из сосуда для взбалтывания воды в чашу, полную до краев кишащей, мятущейся жизнью. Дело в том, что косяки мелкой рыбешки, спасаясь от преследования крупных рыб, залетают в пределы бурунов; пожиратели преследуют их по пятам, прибой захватывает и тех и других, вышвыривая их на берег, истерзанных и ошалелых.
Под сенью плывущей луны волны, толкущиеся неподалеку от берега, насыщаются первобытной жестокостью и напряженной борьбой — идет беззвучная война жаждущих ртов и трепещущей пищи под аккомпанемент грохочущих валов.
Вот одна из таких ночей. Я провел день в обществе друзей, и часов в девять вечера они подвезли меня до станции Нозет. Луна, состарившаяся на двое суток, великолепно изукрасила болотные протоки и плоские островки посреди лагуны своим призрачным зеленоватым светом. С юга дул легкий ветерок. В ту ночь в могучем ритме прибоя высокие волны шествовали сомкнутыми рядами, закручиваясь в бурун только передним валом. Эта передовая волна тяжело разбивалась в густом облаке брызг, а тонкие пласты кипени забегали вперед волны и, достигнув берега, поглощались ненасытным песком. Когда я приблизился к кромке воды для того, чтобы начать путешествие на юг, то увидел, что полоса пляжа, примыкающая к линии бурунов, насколько хватает глаз, причудливо мерцала в лунном свете от конвульсивного танца мириад крохотных рыбок. Волны, попросту говоря, выплескивали их на песок, он кишел этой живностью. В эти минуты буруны были настоящим прибоем жизни. И это происходило на всем многомильном протяжении пляжа.
Что это, мелкая сельдь или макрель? Может быть, песчаные угри? Я подобрал одного танцовщика, выхватив из языка пены, и рассмотрел при свете луны. Он оказался хорошо знакомым песчаным угрем, или песчанкой (Amodytes americanus), обитающим в водах, простирающихся от мыса Гаттерас до Лабрадора. Он во многом отличается от настоящею угря, несмотря на некоторое сходство. Его туловище, такое же стройное и округлое, заканчивается не тупым обрубком, а широким рыбьим хвостом с ярко выраженной развилкой Рыбки, трепыхавшиеся в прибое, достигали трех дюймов в длину.
В ту ночь я возвращался домой, шлепая по воде босиком и наблюдая за конвульсивным, мерцательным танцем. Время от времени я ощущал пальцами ног извивающиеся тельца рыбешек. Вскоре произошло нечто неожиданное, заставившее меня задержаться в полосе прибоя, — футах в десяти от меня на берег выбросилась огромная морская собака. Она двигалась вместе с языком пены, не оказывая сопротивления потоку. Отступающая вода, впитываясь по дороге в песок, дважды перекатила рыбину, увлекая ее за собой; по телу акулы прокатилась судорога, но очередной язык пены, чуть меньше первого, снова отбросил ее к берегу. Рыба достигала трех футов в длину, это была молодая акула. Луна переместилась на запад вдоль бурунов, и тело акулы при усилившемся освещении налилось дымчатым пурпуром. В окружении мелкой рыбешки темный корпус акулы выглядел внушительно.
Только тогда я стал внимательно всматриваться в склоны громоздящихся волн. Там незримо присутствовала крупная рыба — пожиратели, загнавшие «угрей» на берег. Волны прибоя кишели акулами, океан словно ожил от стремительного движения холодных тел, корчившихся поистине в волчьих муках. Однако поверхность воды почти ничего не обнаруживала — изредка мелькал плавник, и лишь однажды явился причудливый призрак рыбины, запечатлевшись на миг в блестящем склоне опрокидывающегося буруна, словно неподвижная муха внутри куска янтаря.
Оказавшись далеко на песке, моя акула стала игрушкой прибоя и вскоре окончательно осталась на берегу. Пройдя с полмили, я заметил, что почти каждый второй бурун выбрасывал из воды побитую, недвижимую акулку, слабо поигрывающую хвостом. Многих я отправил обратно ударом ноги, рискуя пальцами, некоторых я брал за хвост и швырял в воду, потому что не хотел, чтобы они гнили на берегу.
На следующее утро между «Полубаком» и станцией, что составляло одну и три четверти мили, я насчитал более семидесяти дохлых акул, лежащих на верхнем пляже. Там же оказалось около двух дюжин скатов — это тоже разновидность акулы, — выброшенных на берег той же ночью. Скаты преследуют многих морских обитателей и поэтому сами нередко застревают на песке.
В ту ночь я долго не ложился спать, часто откладывая книгу, и снова выходил на пляж.
В начале двенадцатого ко мне заглянул Билл Элдридж; на его лице сияла ухмылка, одну руку он держал за спиной. «Вы уже заказали обед на завтра?» — «Нет еще». — «Тогда, получите!» И он вытащил из-за спины великолепную тресчину. «Нашел как раз напротив двери, живую и невредимую. Да, да, пикша и треска тоже охотятся на песчаных угрей. Я часто нахожу их на берегу. Куда бы поместить рыбину? Дайте-ка кусок бечевки, подвесим ее на бельевую веревку. Там с ней ничего не случится». Билл умело продел бечевку сквозь жабры рыбины, в то время как она тяжело била хвостом. «Не бойтесь, она не умрет. Желаю приятного аппетита». Билл вышел. Я слышал, как он возился с тресчиной.
Потом мы немного поболтали, пока не подошло время Биллу взвалить на плечо контрольные часы и ящик с огнями Костона, нахлобучить на глаза форменное кепи, свистнуть своей черной собачонке и снова пуститься в путь через дюну берегом на станцию Нозет.
В июне бывали ночи, когда люминесцировали и пляж и прибой. Мне запомнилась одна из таких ночей.
К началу лета средний пляж образовал бар, откуда к дюнам вели мелкие сливные канавы, заполняемые приливом. В ту памятную ночь на небе висела луна в первой четверти, озаряя нежным светом языки наступающего моря.
Сразу же после захода солнца я отправился на станцию Нозет, чтобы проводить друзей, с которыми провел день. Прилив нарастал, и в затонах появилось течение. Я задержался на станции, пока не угасли последние отблески заката, и планета осветилась холодным лунным светом, освободившимся наконец от розоватой примеси сумерек.
Я поспешил на юг и, поскольку неподалеку от станции пляж был сплошь изрыт глубокими протоками, старался держаться поодаль от берега. Прилив убыл на полфута, но буруны все еще громоздились над баром, словно упершись в стену, а самые крупные выбрасывали далеко вперед длинные языки осыхающей пены.
По мере того как луна смещалась на запад, стало темнеть. С запада гребни дюн еще светились, но на пляже и среди бурунов уже было темно, толпы дюн являли собой сумеречное согласие.
Уровень воды в затонах понизился, берега их влажно блестели. Спокойствие подпруженной воды и бурление моря находились в странном контрасте.
Я держался внутреннего края лагуны, и мои башмаки разбрызгивали мокрый песок, словно это был снег. Каждое хлюпанье сопровождалось полетом светящихся брызг. Я шел словно по звездной пыли. Позади меня оставались фосфоресцирующие пятна. Когда лунное освещение пошло на убыль и уровень воды упал наполовину, обнажившиеся берега затонов обрели форму в обрамлении слабо тлеющего света. Люминесцирующие пятна то умирали, то оживали, и казалось, будто их зажигал и гасил своим дыханием пролетающий ветер.
Временами из глубины необозримого темного океана на берег выкатывался бурун, тоже горящий фосфором, — огромная волна — сочетание призрачного движения и мертвенного свечения. Расшибаясь о бар, волна рассыпала бледные искры пламени.
Странные вещи происходят здесь во время таких приливов. Фосфоресценция сама по себе разновидность жизни, иногда одноклеточной, порой бактериальной, и свечение, о котором я говорю, очевидно, принадлежало к последней. Стоит этому свету просочиться на пляж, как бактерии быстро проникают в ткани сотен тысяч песчаных мух, вечно жужжащих на окраине океана.
Примерно через час серенькие тельца этих кишащих amphipods, этих полезных, постоянно голодных морских санитаров (Orehestia agilis, Talarchestia megalophthalma), покрываются люминесцентными точечками. Точечки растут и объединяются до тех пор, пока муха не осветится целиком. Подобная световая атака — настоящая болезнь, инфекция. Когда в ту ночь я появился на пляже, процесс уже начался и светящиеся мошки, разлетаясь в стороны из-под ног, являли почти волшебное зрелище. Я с интересом наблюдал, как они переносились от кромки затонов на верхний пляж, постепенно бледнея по мере достижения полосы мирного лунного света, держащегося особняком от странного, ползучего сияния. Думаю, что эта инфекция смертельна для мух; по крайней мере я часто нахожу их неподвижно лежащими у самой воды; их огромные, словно фарфоровые, глаза и водянисто-серое тело — сплошной заряд живого огня.
Всю зиму я спал на кушетке в большой комнате, но с наступлением теплой погоды перебрался в спальню, которую до сих пор использовал как кладовую, то есть вернулся на свою старую, порядком заржавевшую кровать. Однако время от времени, подчиняясь странной прихоти, снова забирал постельные принадлежности в большую комнату и устраивался на кушетке. Мне нравится, что в этой комнате семь окон. Находясь там, чувствуешь себя на открытом воздухе. Моя кушетка стоит у фронтальных окон, и поэтому, не поднимая головы с подушки, я могу разглядывать море: наблюдать за проплывающими мимо огнями; звездами, зажигающимися над океаном; мигающими фонарями рыбачьих судов, стоящих на якоре; за белыми шапками бурунов, нарушающих спокойствие дюн неумолкаемым ревом.