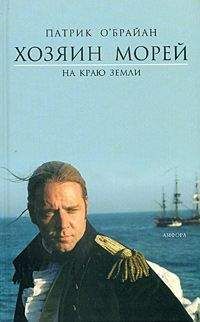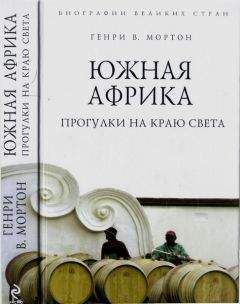Генри Бестон - Домик на краю земли
Странные вещи происходят здесь во время таких приливов. Фосфоресценция сама по себе разновидность жизни, иногда одноклеточной, порой бактериальной, и свечение, о котором я говорю, очевидно, принадлежало к последней. Стоит этому свету просочиться на пляж, как бактерии быстро проникают в ткани сотен тысяч песчаных мух, вечно жужжащих на окраине океана.
Примерно через час серенькие тельца этих кишащих amphipods, этих полезных, постоянно голодных морских санитаров (Orehestia agilis, Talarchestia megalophthalma), покрываются люминесцентными точечками. Точечки растут и объединяются до тех пор, пока муха не осветится целиком. Подобная световая атака — настоящая болезнь, инфекция. Когда в ту ночь я появился на пляже, процесс уже начался и светящиеся мошки, разлетаясь в стороны из-под ног, являли почти волшебное зрелище. Я с интересом наблюдал, как они переносились от кромки затонов на верхний пляж, постепенно бледнея по мере достижения полосы мирного лунного света, держащегося особняком от странного, ползучего сияния. Думаю, что эта инфекция смертельна для мух; по крайней мере я часто нахожу их неподвижно лежащими у самой воды; их огромные, словно фарфоровые, глаза и водянисто-серое тело — сплошной заряд живого огня.
Всю зиму я спал на кушетке в большой комнате, но с наступлением теплой погоды перебрался в спальню, которую до сих пор использовал как кладовую, то есть вернулся на свою старую, порядком заржавевшую кровать. Однако время от времени, подчиняясь странной прихоти, снова забирал постельные принадлежности в большую комнату и устраивался на кушетке. Мне нравится, что в этой комнате семь окон. Находясь там, чувствуешь себя на открытом воздухе. Моя кушетка стоит у фронтальных окон, и поэтому, не поднимая головы с подушки, я могу разглядывать море: наблюдать за проплывающими мимо огнями; звездами, зажигающимися над океаном; мигающими фонарями рыбачьих судов, стоящих на якоре; за белыми шапками бурунов, нарушающих спокойствие дюн неумолкаемым ревом.
С первых дней пребывания здесь мне не терпелось увидеть, как бушует гроза над этими дикими берегами. Гроза на Кейп-Коде — это буря. Я цитирую это слово, употребив в том самом смысле, какой в него вкладывал Шекспир. Оно означает у Шекспира гром и молнию. Истемская буря в этом смысле отвечает старому доброму духу елизаветинского времени. Когда школьник из Орлинса или Уэлфлита читает «Бурю» Шекспира, название пьесы означает для него то, что и для того человека из Стратфорда. В других местностях Америки понятие «буря» относится, кажется, ко всему на свете, начиная от торнадо и кончая метелью. Полагаю, что шекспировское понятие бури существует сейчас лишь в отдельных уголках Англии и на Кейп-Коде.
В ночь июньской бури я устроился на ночлег в большой комнате; окна были растворены, и с первым раскатом грома я открыл глаза. Когда я укладывался спать, было совсем тихо, но теперь сильный вест-норд-вест вливался в окна упругим потоком; когда я закрывал их, то увидел далеко на западе вспышку молнии. Я взглянул на часы — было начало второго; затем последовало ожидание в полнейшей темноте — долгие минуты, нарушаемые снова и снова раскатами грома, за которыми следовали интервалы тишины. В эти минуты я различал легкий плеск прибоя на берегу. Неожиданно небеса раскололись пополам, и все озарилось великолепной, сиренево-розовой молнией. Все семь окон вспыхнули неземным фиолетовым светом, и на какой-то миг я увидел огромные дюны, совершенно лишенные своих обычных теней; раздался невероятный грохот, совпавший с моментом угасания молнии, и его эхо покатилось куда-то вдаль, ослабевая вместе с торопливым возвращением темноты. Через несколько секунд пошел дождь, но так осторожно, будто получил чье-то соизволение. Послышался благословенный звук его ударов по крыше, крытой дранкой, — звук, обожаемый мной с детства. Мягкие шлепки по крыше сменились барабанной дробью, и вслед за этим раздалось журчание в водосточных трубах. Буря проносилась над Кейп-Кодом, поражая молниями древнюю землю, устремляясь в небо, нависшее над океаном.
Вспышки следовали одна за другой под шум дождя и тяжелые раскаты грома, не замирая до тех пор, пока эхо не повторит в точности его щедрые переборы, сотрясавшие стены. В ту ночь молния поразила несколько домов в Истеме. Мой одинокий мир, заполненный светом молний и дождем, являл непривычное зрелище. Я не разделяю бытующих страхов перед грозой, но в ту ночь, в первый и последний раз за год пребывания в дюнах, на меня навалились тоска одиночества и чувство оторванности от остального человечества. Помню, как я стоял посреди комнаты, наблюдая за происходящим. В одно мгновение вспышки молний обнажали извилистые протоки обширных неподвижных болот с зеркальной поверхностью, отливающей металлом. Подавленные неистовством бури большие дюны оцепенели, словно обратились в камень. Огненные стрелы возникали из тьмы и снова ныряли во мрак ночи, я почти осязал необъятность времени, тысячи его неисчислимых годовых циклов, прошедших с тех пор, как дюны-гиганты возникли из океана, лежащего ныне у их ног, и предстали перед ветром и сиянием дня.
Фантастические вещи обнаружились в океане. Прибитые дождем, укрытые от натиска западного ветра за полуостровом, прибрежные воды вели себя непривычно спокойно. Прилив взошел вверх по пляжу наполовину своей высоты, и длинные низкие параллели валов вырастали у самого берега, курчавились пеной, как и всегда разбиваясь о берег на протяженности многих пустынных миль, пронизанных дождем. Мощные трескучие вспышки, эти содрогания шторма, двигавшегося в открытое море, освещали каждую пядь берегов и равнины Атлантики.
Чернели только впадины меж бурунов, поскольку были укрыты от света высокими гребнями. Эффект получался драматический и отличался живописностью, потому что светящийся океан разрезали параллельные темные полосы, которые надвигались на берег, смешиваясь затем с белизной, когда волна пенно опрокидывалась на песок.
Когда буря миновала, высыпали звезды и я увидел небо и землю чисто вымытыми и освеженными.
Скорпион и Сатурн устраивались на небе поудобнее, но Юпитер только что миновал зенит и несколько потускнел на своем троне. Прилив низко стоял в болотных протоках, чайки начали давать знать о себе на гравийных отмелях и банках.
Прогуливаясь по берегу, я неожиданно поднял с гнезда певчего воробья. Птичка перелетела на крышу дома, ухватилась лапками за конек крыши и вопрошающе повернулась в мою сторону со своим «циип», односложным сигналом тревоги.
Затем она вернулась к гнезду и, окончательно оправившись, разразилась утренней песней.
Год у высокой воды
Если бы позволил объем книги, я бы написал главу, посвященную обонянию, потому что всю жизнь питаю особое пристрастие к распознаванию запахов. По-моему, люди излишне доверяют зрению. Мне нравятся добротные запахи: запах свежевспаханного поля в теплые утренние часы апреля после ночного дождя; пряный аромат дикой кейп-кодской гвоздики; благоухание сирени, сверкающей утренней росой; терпкий запах солончаковой травы, навеваемый с лугов на склоне летнего дня, и особый запах отлива.
Подумать только, каким зловонием вынуждены дышать люди нынешних поколений! Как только они согласились терпеть этот грязный, синюшный воздух?! В XVII столетии городской воздух, должно быть, ничем не отличался от деревенского; в наши дни городская атмосфера приемлема только для нового, синтезированного человека.
Английская традиция в основном отрицает запахи. По мнению англичан, человеческий нос следует считать неделикатным органом, и я не совсем убежден в том, что его использование не рассматривается как нечто чувственное. Наши литературные зарисовки, поэтические пейзажи, выставленные в галерее памяти, — вещи созерцательные. Французская словесность более снисходительна к носу; невозможно, пожалуй, прочитать и десятка строк из любого поэтического творения Франции, не встретив вездесущего parfum[18]. И в этом французы правы. Хотя глаз — властелин мироощущения человека, его главные эстетические ворота, процесс формирования эмоционального настроя или мимолетного явления земной поэзии — ритуал, и к его свершению могут соответственно призываться остальные чувства.
Ни одно из чувственных воспоминаний не обладает такой мощью, не распахивает так широко дверь во владения нашего мозга, как обоняние. Без него не может обойтись ни один почитатель дикого мира природы, равно как для наблюдения, так и ради собственного удовольствия. Мы обязаны содержать наши органы чувств в состоянии бодрости, здоровья и постоянной готовности. Если бы мы вели себя подобным образом всегда, было бы незачем создавать цивилизацию, грубо попирающую их, настолько грубо, что над нами замкнулся зловещий круг, где притупившиеся человеческие чувства проявляются все глуше и глуше.