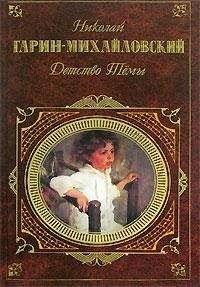Николай Гарин-Михайловский - Гимназисты
И старушка няня, как умеет, отвечает на трудные для нее вопросы: солнце спать ушло, полоска оттого, что солнышко дверь забыло затворить, принцессу заколдовал злой волшебник и посадил в башню. Он вырастет, убьет волшебника и уедет с принцессой в ту страну, куда ушло солнышко, где так хорошо, что и сказать нельзя. Теперь и не помнит он, и что это за башня, и где это все было, и няни уже нет. А стоит, как живая, будто стоит там за дверьми его вечной детской, тихо возится и ждет, когда он приведет к ней заколдованную принцессу.
Корнев вдруг очнулся, недовольно сдвинул брови и покосился на своего двоюродного брата.
Ветер совсем стих. Паруса сердито хлопнули и опустились. Лодочники перебросились между собою несколькими греческими фразами и стали убирать паруса. Карташеву хотелось принять участие в уборке, но он был сердит на лодочника. Он равнодушным недружелюбным взглядом наблюдал, как тот возился, и не двинул пальцем. Когда лодочник, забравшись на нос, задевал его, он брезгливо, так, что лодочник замечал, сторонился от его загорелых, засученных рук, от его черной бороды, обветренных глаз и красной фески.
Долба продолжал петь.
Когда он кончил, Берендя заметил:
– За…замечательно мелодичны малороссийские песни.
– Типично… именно с оттенками хохла, – поддержал Рыльский.
– Что? – спросил его с подъехавшей в это время лодки Корнев.
Лодки поехали рядом.
– Я говорю, типично поет он.
– Да, – согласился Корнев.
– И голос у вас выразительный какой, – сказала Наташа. – Спойте еще.
– Еще? Что ж еще? Я принимаю похвалу только оттенку. Наши песни только тот споет так… чтоб передать душу хохлацкую… а наша душа в степи, в тоске по степи, когда ее нет… в удали казацкой… в любви, – есть дивчина, любит ее, сколько пустит, – нет – потопит свое горе и душу без думки, с размаху, так – только чтоб дух захватило в славном деле… Спеть так может только тот, кто рос в степи, кто кормился в ней подпаском, плакал, когда били его, радовался, когда дивчина-сердце по той степи шла да светилась на весь божий мир. О! такой запоет про степь: запоет, як про мамку свою рыдну, затоскует и заплачет, как про дивчину, от которой оторвали люди, а сердце не забыло…
Ой, мамо, мамо,
Сердце не бажае,
Кого раз полюбит —
С тем и помирае.
Он оборвался и раздраженно проговорил:
– Это не та хохлуша поет, что полурусский костюм надела, да и думает, что она хохлуша. Это не в три яруса перевязанная кацапка поет, которой хоть в очи наплюй… кисель какой-то… тесто: облепит своего мужа так, что и застрял и скис… Это поет дивчина, без которой и Сечи и воли не было бы у казака… та, которая не боится искать, а уж «знайдет», так сумеет взять то, что ей бог, а не люди дали, спрашивать не станет… даст свое счастье, кому захочет.
– Ну, однако, жена Тараса Бульбы не похожа на ту, которая тебе снится, – заметил Корнев.
– Мне или Гоголю снится? Была бы Сечь, если б бабы не гоняли их туда? Вся история наша не с бою? А кацапы всё киселем: закиселили татар, закиселили французов… Та-а-рас! Посмотрел бы я на твоего Тараса, если б ему русская трехъярусная попалась.
– Слушайте, Долба, я хохлуша? – спросила Корнева.
Долба поднял голову и, облокотившись локтями о колени, ловя губой свои подстриженные усы, смотрел ей в глаза и загадочно щурился.
Корнева не выдержала. В глазах ее мелькнуло что-то.
– Ведьма! – быстро наклонился к ней Долба и залился веселым смехом.
– Благодарю, – обиделась Корнева.
– Нет, так сразу нельзя ответить… Вы знаете, у нас, у хохлов, как паробки дивчат узнают: кохаются.
– Что значит кохаются?
– Кохаются?.. Воля полная… у нас девушка до свадьбы совершенно вольная, и критики на нее нет: хочет – с одним жартуется, с другим, – пока не подберутся друг к другу.
– Что ж, это разврат… – заметил Семенов.
– Нет, разврата нет: воля. Разврат, где воли нет, а здесь воля полная… И дело до разврата не доходит.
– Ну… – кивнул головой Семенов.
– Под устав не подходит, – в тон ему сказал Рыльский.
– Под устав нравственности не подходит, – ответил с ударением Семенов и уставился в глаза Рыльскому.
Рыльский понял, на что хотел намекнуть Семенов, и спросил, слегка прищуриваясь:
– Чувствуешь себя хорошо?
– Очень хорошо.
– Ну, и проповедуй своей невесте…
– Я надеюсь, что моя невеста сама это будет знать, – ответил многозначительно Семенов.
Наступило общее неловкое молчание.
– Описать тебе твою невесту? – предложил Долба Семенову.
– Опиши, – вызывающе протянул Семенов.
– Красивая, – начал Долба, отсчитывая по пальцам, – конечно, с хорошими манерами, – словом, то, что называется воспитанная.
– Надеюсь.
– Будете играть: ты на скрипке, она на рояле.
– Обязательно.
– Ну, что ж еще? По утрам станете играть, под вечер гулять ходить будете… Ты будешь затягиваться с двойным наслаждением против теперешнего и будешь ей всё объяснять: «Вот это, моя милая, хороший человек, а это дурной, а по сторонам, когда я говорю, не смотри, а то я обижусь. А если я обижусь, я не скрипку, а тебя пилить стану. А если ты не образумишься, я тебя попру своим презреньем и понятием о чувстве собственного достоинства вообще и о том, что такое порядочная, воспитанная женщина в особенности…»
– Ну, потрудитесь теперь свою невесту описать.
– Моя? моя будет или из деревни, или одного со мной ума и развития, которую бы учить не пришлось, потому что все равно не научишь, а сам засосешься в ее киселе. Ну, вольная будет, умная…
– Все умных возьмут, а дуры куда же денутся? – спросил Вервицкий.
Долба весело посмотрел на него.
– Выбирать-то мы с тобой будем…
– Ну что же? кому ж нибудь все-таки достанется глупая, – сказал Вервицкий.
Долба оглянул всех и ответил, почесывая затылок:
– Не сообразил. Ты что не пишешь?
– Не пишется, – пожал плечами Вервицкий.
Все рассмеялись, и даже Карташев не удержался, фыркнул за парусом.
На горе из-за сада показалась дача Горенки. Лодки пристали к мягкому песчанистому берегу.
Пока соображали, как подтянуться к сухому месту, Долба, проговорив: «Эх вы!» – прыгнул и по колени в воде потащил за канат лодку.
– Постой, и я, – предложил было Берендя. Но, пока он собирался, носы лодок уже лежали на сухом берегу.
Один за другим попрыгали все, за исключением Карташева.
– Обиделся, – тихо махнул рукой Рыльский.
Еще подождали, и, наконец, Долба спросил Карташева:
– Ты что ж?
– Я не пойду, – ответил Карташев.
– Пойдем, Тёма, – попросила было сестра.
– Не пойду, – отрезал Карташев и отвернулся.
Переглянулись все и стали медленно подниматься в гору.
– Что с ним сегодня? – спросила Корнева.
Рыльский молча пожал плечами.
– Ну, что ж? не хочет, и бог с ним, – сказал Семенов.
Карташев лежал в лодке так плотно, точно прирос, злорадно провожая глазами исчезавшую между деревьями компанию.
Горенко сидела на ступеньках террасы и, увидев многочисленное общество, пошла к ним навстречу.
– Наташа! – радостно бросилась она.
Она быстро поцеловала Наташу, посмотрела на дорожку, откуда пришли все, и спросила:
– А брат твой?
– Капризничает… в лодке лежит, – ответила Корнева.
– Просто не в духе, – сказала Наташа, – с утра он еще… там дома у него вышла одна история неприятная.
По лицу Горенки пробежала тень.
– Что ж, он боится, что при виде меня ему еще неприятнее станет?
Анна Петровна обиженно улыбнулась, пожала плечами и повернулась к остальным:
– Милости просим на террасу.
Моисеенко как поздоровался, так и стоял, продолжая смотреть на нее.
– Вы как попали? – спросила его Горенко.
– Только под одним условием и поехал, чтобы к вам на дачу, – выдала его Корнева.
Горенко покраснела и, по привычке кусая губы, пошла за другими рядом с Моисеенко.
– Как брат?
– Ничего… сегодня лучше.
Манера говорить Анны Петровны была оригинальная и своеобразная: она отвечала не сразу, как будто ее отделяла от говорившего какая-то изолирующая среда, звук чрез которую проходил не сразу, а нужно было время. Иногда казалось, что она не слышала, но проходило время, и она отвечала так, как будто отвечала себе, но могли слушать и другие. Эта манера на Моисеенко действовала в смысле усиления того особенного и впечатления, и уважения, и обаяния, какое он чувствовал к ней.
Брат Горенко, Сергей Петрович, стройный, худой, с темным лицом, тусклыми черными небольшими глазами, с черной, окаймлявшей лицо бородкой, смотрел подавленно, вопросительно протягивал свою худую руку и старался приветливо улыбаться.
– Любуетесь? – спросил его Долба и показал на море.
Часть берега скрывалась за садом, но дальше был открытый вид, и ничто не мешало взгляду сразу охватить и потонуть в безбрежной, точно позолоченной, морской глади. Только в левом углу террасы сквозь деревья просвечивал обрывистый берег с торчавшими из воды острыми камнями, поросшими длинной морской травой. Каждый раз, как волна плескала о камни, трава эта как веером расплывалась по ней. В то время, когда везде царила мертвая тишина, были неподвижны и воздух, и море, и сад, в том уголке все продолжало бурлить, все несло какой-то шум и постоянно привлекало к себе тревожные взгляды больного. Но опять он обращался к далекому горизонту, где все в ярком огне лучей точно застыло в неподвижном покое, и опять стихал и удовлетворенно, без мысли, смотрел в пространство.