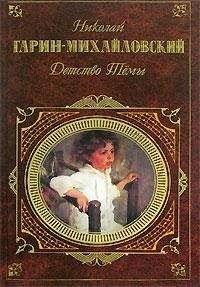Николай Гарин-Михайловский - Гимназисты
– Вот дурища! – весело, по секрету сообщил Семенов. Все трое фыркнули. – Я…
– Идите, идите…
Семенов зашагал назад к своей даме.
Корнева и Рыльский опять пошли вдвоем.
– Слушайте, отчего мне так весело? А вам весело?
Рыльский ответил сначала глазами и потом прибавил:
– Весело.
Корнева пытливо заглянула в его глаза и произнесла с набежавшим вдруг огорчением:
– Мне все кажется, что вы шутите, а на самом деле думаете совсем другое.
– Я говорю, что думаю.
Корнева наблюдала Рыльского. Рыльский делал вид, что не замечает, и серьезно провожал глазами встречавшихся гуляющих.
– Отчего, когда я хочу на вас сердиться, – я не могу. Пожалуйста, не думайте: я ужасно чувствую вашу самонадеянность и презренье ко всем. Иногда так рассержусь, вот взяла бы вас и побила.
Она рассмеялась.
– А посмотрю на вас… и все пропадет… Ведь это не хорошо… правда?
– Что не хорошо? – спросил Рыльский.
Они вошли под тень акаций.
На них пахнуло сильным ароматом цветов.
– Ах, как хорошо пахнет, – сказала Корнева.
Рыльский подпрыгнул и сорвал белую кисть цветка.
– Дайте…
Она оглянулась и, пропустив свидетелей, прикрепила цветок у себя на груди. Она прикрепляла и смотрела на цветок, а Рыльский смотрел на нее, пока их взгляды не встретились, и в ее душе загорелось вдруг что-то. Она закрыла и открыла глаза. Ее сердце сжалось так, будто он, этот красавец с золотистыми волосами и серыми глазами, сжал ее в своих объятиях.
Она пошла дальше, потеряв ощущение всего; что-то веселое, легкое точно уносило ее на своих крыльях.
– Ах, я хотела бы… – вздохнула она всей грудью и замерла.
Нет, нельзя передать ему, что хотела бы она унестись с ним вместе далеко, далеко… в волшебную сторону вечной молодости… Хотела бы вечно смотреть в его глаза, вечно гладить и целовать золотистые волосы.
– Нет, ничего я не хочу… Я хотела бы только, чтобы вечно продолжалась эта прогулка…
Но они уже стояли у зеленой калитки их дома. Сквозь ажурную решетку увидала она брата, спину уныло облокотившегося о стол Карташева и, оглянувшись назад, произнесла упавшим голосом:
– Уже?
Эхо повторило ее вздох в веселом дне, в залитой солнцем улице и понесло назад в ароматную тень белых акаций, в безмятежное синее море, в искристый воздух яркого летнего дня.
После обеда компания отправилась кататься на лодках. Поехал и Моисеенко, соблазненный заездом на дачу Горенко, с которой он был знаком и которой интересовался. По поводу приглашения дочери хозяина Корнев было запротестовал, но Семенов энергично обратился к нему:
– Ты молчи… понимаешь?
Так как Семенова поддержала и Корнева, то Корнев только рукой махнул.
Вервицкий тоже ехал и, сбегав домой, захватил на всякий случай с собой гитару и удочки. А Берендя принес скрипку.
В гавани Вервицкий, вынув из кармана карандаш и книжку, как признанный уже писатель, приготовился записывать свои путевые впечатления.
Это очень занимало и веселило компанию, пока приготовляли лодки.
– Ты что же будешь записывать? – спросил Долба.
– Так, что придется.
– А уж написал что-нибудь?
– Чистая…
Наняли две лодки, так как одной, достаточно поместительной, не оказалось. Вопрос – кто где сядет – решился как-то сам собой. Карташев, избегая Корневой, как только она вступила в лодку, прыгнул в другую, за ним прыгнула Наташа, за ней Корнев, а за Корневым Моисеенко.
– Ну-с, держитесь, только и видели нас! – крикнул весело Долба с своей лодки.
Карташев сделал презрительную гримасу. Как опытный моряк, он сразу увидел, что их лодка ходче и парус больше. Но, чтоб найти себе в чем-нибудь утешение, он взял рифы, вследствие чего лодка Долбы обогнала его. Карташев сам сидел на руле.
– Не подвезти ли? – раскланялись из первой лодки.
Карташев молча злорадно посмотрел, волнуясь от нетерпения. Пропустив первую лодку, выехав уже в море, он с отданными рифами, с подтянутыми кливер и фокашкотами направил лодку в сторону от ехавших впереди. Лодка понеслась стрелой, сильно накренившись на левый бок, только не черпая воду, ныряя и описывая громадный полукруг.
– Куда это они? – спросила Корнева, сидевшая рядом с Рыльским.
Лодка Карташева на мгновение качнулась, круто стала против ветра, болтнулись паруса, и уже правым галсом понеслась наперерез второй лодке.
– А красиво, – заметил Вервицкий.
– Записывай скорей, – крикнул Рыльский.
Лодка неслась и была совсем близко. Шум воды, точно кипевшей у ее носа, угрожающе усиливался.
– Что ж это они, прямо на нас? – взволновался Вервицкий.
Он схватился за борт и принялся делать отчаянные взмахи рукой, долженствовавшие указать Карташеву истинный путь.
– Да, ей-богу, он опроки…
Лодка Карташева пронеслась у самого носа их лодки: то, что называется у моряков, нос обрезала.
– Ну, разошелся Карташев, – сердился Рыльский, – он теперь не успокоится, пока или нас, или их не перетопит.
– Ей богу, шалый какой-то, – сказал Долба, – не может, как люди.
– Ну его к черту, поедем, господа, назад, – предложил Семенов.
Карташев уже успел повернуть свою лодку и опять резал воду, направляясь на противников.
– Послушай, мы не потопим друг друга? – спросил Корнев.
– Ну!.. я ведь собаку съел…
– Ну, съел так съел, – согласился Корнев и, оставив всякую заботу, продолжал разговор с Наташей и братом.
Разговор вертелся на Горенко. Говорила больше Наташа, а кавалеры слушали: Моисеенко – потому, что речь шла о Горенко, Корнев – потому, что говорила Наташа.
Карташев, почти налетев опять на лодку, круто повернул было, чтобы плыть рядом, но не рассчитал расстояния, и кончилось тем, что чужим парусом чуть было не выбросило Семенова в воду.
Семенов, взбешенный, еще бледный от избегнутой опасности, властно закричал Карташеву:
– Сумасшедший ты… Отнимите от него руль!
И Семенов, красный, решительный, своими маленькими горящими, как угли, глазами впился в Карташева. На мгновение все поддались его команде. Только Наташа, сконфуженная, улыбалась и ласково смотрела на брата.
– Ну, ты, отец командир, сокращайся, – пренебрежительно крикнул Корнев Семенову, – не утопили… Чего петушишься?
– Садись, садись, – дернул Семенова Долба.
– Да это черт знает что такое, – волновался Семенов, усаживаясь, – сумасшедшее нахальство какое-то… Надоело жить – топи себя…
Намек Семенова вызвал улыбку у всех. Семенов успокоился.
Только Берендя ничего не понял и, довольный, что все благополучно кончилось, пробормотал:
– Че… черт побери… если б опрокинули, я… я утонул бы.
Он так глубокомысленно и серьезно вник в миновавшую опасность, лучистые глаза его так раскрылись и уставились, что все покатились со смеху.
– Ти… ти… ти… отчего ж бы утонул? – спросил Вервицкий.
– Ду… дурак, – обиделся Берендя, – я плавать не умею.
И лодка опять задрожала от смеха.
Неудача Карташева кончилась тем, что он должен был уступить руль лодочнику-греку, который, воспользовавшись удобным моментом и чувствуя за собой большинство, решительно отнял у него руль.
Окончательно развенчанный, Карташев с горя полез на нос и, устроившись там за кливером так, чтобы его никто не видел, придумывал план мести всем: коварной изменнице и отныне своему заклятому врагу, Рыльскому, и Семенову, и даже лодочнику. Относительно Мани у него уж не было теперь никаких сомнений: теперь они сидели рядом, и это убеждало его, что он в отставке.
Было из-за чего залезть за парус, страдать, сознавая глупость страдания, и поздно жалеть, что поехал.
На лодке, где сидела Корнева, послышалось пение. Пел Долба. Его приятный, сильный и характерный голос хохла мелодично несся по воде.
Все притихли и отдались очарованию пения и тихого, безмятежного вечера. Было часов восемь. Ветер совсем стихал. Солнце садилось и золотило своими лучами синюю даль моря. Море точно вздыхало от избытка безмятежного покоя. И воздух, и море, и небо там, на далеком западе, точно засыпали, утомленные, сладким сном. Запал как загорелся, так и горел, залитый огненной массой. Только ближе к горизонту, точно зажатый, сквозил клочок прозрачного золотисто-зеленого неба; точно вход туда, за пределы земли.
Корнев засмотрелся в эту точку. Неожиданной волной вдруг хлынуло на него далекое прошлое. Точно какие-то таинственные двери этого далекого, милого детства вдруг отворились в этом клочке золотисто-зеленого неба и мягко звали в свою вечную даль. Прильнув к стеклу окна своей детской, он, опять мальчик, смотрит на это заходящее солнце, смотрит на сад, на целый лес других садов. Далеко за ними ярко горят в заходящих лучах окна какой-то башни. Что это за башня? Кто в ней живет? Давно зашло солнце, потухли окна волшебной башни, едва догорает розовая полоска на далеком западе, а он все не может оторваться от чарующего вида. Уже сонного укладывает его няня в кровать, но и в кровати долго еще мучит он свою старую няню трудными для нее вопросами, куда делась башня, и куда солнце ушло, и что за полоска там далеко, далеко так тоскливо светится в надвигающейся темной, пока еще прозрачной в вечернем сумраке, ночи.