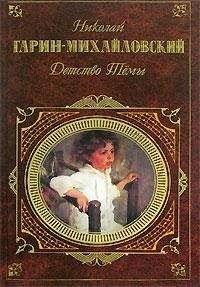Николай Гарин-Михайловский - Гимназисты
Мне представляется такая картина: сидит чучело с длинными волосами, сидит и ждет, пока его потребуют и поволочат в широкошумные дубравы. А так как сидеть скучно, то он и погружается малодушно и делается между сынами земли самым ничтожным… Вот к чему это приводит: патент на бездельничанье. Напрягся и потек, потек и изнемог. Та же мысль, только красивее передана. А в погоне за этой красотой гибнет знание. Человек, вместо того чтобы учиться и с этим знанием, как анатом со скальпелем, идти в жизнь, развертывать ее не в фотографическом изображении, в каком мы ее и без того все видим, но осмыслить не можем, а в систематичном изложении постоянно накопляющегося, неотразимого вывода, – человек сидит болваном и ждет, пока его идиот Аполлон потащит в широкошумные дубравы… пакость! Уж если этакому болвану охота время свое тратить, так и пусть его, ну, а читать его ерунду прямо уж преступление… В этом и зло этого принципа искусства для искусства.
– Да, конечно…
– А вот ты в своей статье и не подчеркнул этого… Есть и еще очень скверная сторона здесь. Художественная форма очень капризная вещь: удается не то, что хочешь, а то, что выходит; ведет, следовательно, форма, а не суть. И еще: художественно ты можешь воспроизвести то, что видел, положим, но то, что ты слышал, например, тебе не удается облечь в художественные формы, – ты бросаешь, а между тем, может быть, слышанное по содержанию гораздо важнее наблюденного. Опять содержание гибнет из-за формы. А между тем жизнь не форма, и за каждое предпочтение формы перед сутью приходится дорого платить. Вся задача людей, все их развитие сосредоточено на том, чтобы по возможности расширять формы жизни, – это мерило цивилизации: у китайца под формой все протухло, тина, болото… У американца жизнь бьет ключом. Больше можно сказать: форма – мерило силы народной, и преобладание ее над сутью – бессилие народа. Литература и должна разбивать эти мешающие жить формы. И что ж? Она же сама, этот, так сказать, таран рутины сам превратился в такую рутину, что современному русскому живому, умному человеку, не обладающему этой формой, приходится, не раскрывши, что называется, рта, являться и сходить с подмостков жизни… А между тем это живое слово необходимо. В прежнее время без пара, электричества, без этих страшных рычагов цивилизации там, может быть, и можно было дожидаться сочетания и содержания и формы, а теперь… когда выпячивает и с боков и снизу… когда чуть не караул впору кричать, сидеть и ждать златокудрого Аполлона может только какая-нибудь Коробочка или идиот, довольный тем, что он освободил себя от обязанности давать отчет за свои благоглупости. Наше время машин и механики, время прозы, ремесленное время, время усиленной грязной работы с засученными рукавами, время ума, а не время тонкостей маркизов и помпадурш, и литература должна быть на высоте. Не форма ее задача, а простым человеческим языком объяснение смысла этой работы, направление к цели, ободрение работников, подготовка и воспитание этих работников, которые бы полюбили свою работу, умели бы умирать за нее, а не придумывать разные отговорки в пользу сытого брюха… «семья, семья…». Так не женись, черт тебя побери, если нельзя найти другой семьи!
– Видишь ты, я указал…
– Бледно!! Это должно выпятиться так, чтобы слова из бумаги лезли.
– Да, пожалуй…
Последнюю фразу Корнев проговорил уже во дворе, в том углу его, где стоял стол, застланный чистой скатертью. Он снял фуражку и, положив ее на стол, сам сел в кресло.
– Сам идет? – спросила озабоченно Анна Степановна, показавшаяся в дверях.
– Идет, – рассеянно ответил сын. – Зайдет, вероятно, к приятелю своему Жану. – Корнев раздраженно кончил: – Да что вы, маменька, пугаете сами себя; точно в самом деле зверь какой идет. Человек никогда вам резкого слова не сказал, а вы его боитесь, точно вот он схватит сейчас палку и пойдет бить посуду.
– Ох, боюсь, – ответила Анна Степановна и, комично сморщившись, посмотрела на сына и племянника и весело рассмеялась. – До смерти боюсь… Так затрепыхается, заколотится в середке, ноги подкосятся… Ей-богу.
Калитка скрипнула, и вошел Карташев.
– О-о! Мой! – просияла Анна Степановна, и, когда Карташев подошел, она обняла его и, подмигивая, проговорила: – Ось як.
Карташев присел к столу и был рад, когда на него перестали обращать внимание. Облокотившись на локоть, он под разговор Корнева с братом задумался, и его сердце тревожно билось, что Корнева теперь с Рыльским и, вероятно, не скоро заглянет сюда: лучше было бы пойти прямо на бульвар. Может быть, она обрадовалась бы его приходу. Карташев вздохнул.
– Ох, тяжко жить! – ласково заметила Анна Степановна, кладя руку на мягкие волнистые волосы Карташева.
Корнев уже несколько раз поглядывал на приятеля. За последнее время он начинал чувствовать какую-то особенную симпатию к Карташеву.
– Ты что это в самом деле? – спросил он.
– Устал, – ответил смущенно Карташев и, отгоняя от себя свои мысли, спросил: – Ну что? решил ехать с нами?
– Куда это? – поинтересовался двоюродный брат Корнева.
– К ним… в деревню, – ответил Корнев.
– Ты что ж, едешь?
Корнев озабоченно посмотрел на мать. Анна Степановна только вздохнула.
– Не решил еще.
– Отчего ж тебе не ехать? – спросил его брат. – Деревня…
Но Карташев перебил его:
– В деревне так интересно.
Студент ждал, что он еще скажет.
– Наши хохлы такие симпатичные, оригинальные… Когда узнаешь их – их нельзя не полюбить. А степи наши… Сначала они никакого впечатления не производят, но постепенно так привязываешься к ним, как к человеку. Знаешь, этот простор, одиночество степи… и ты один…
«Один!» – охватило Карташева с щемящей болью и сильнее потянуло в степь.
Он вздохнул всей грудью.
– А осенью в степи!.. Небо синее, синее… воздух прозрачный, неподвижный… видно на десятки верст: только скирды да где-нибудь стадо овец, да орел на скирде… спокойно… тихо… так и кажется, что степь спит… дышит…
– Не храпит? – добродушно улыбнулся Корнев и посмотрел на брата. Карташев сконфуженно провел рукой по лицу и тоже улыбнулся.
– Смейся, а если бы поехал…
– В деревне есть что посмотреть, – сосредоточенно, избегая Карташева, заговорил студент. – Как разворачивают «Отечественные записки» эту деревню… Успенский, Златовратский – какая прелесть!
– Немножко скучно только, – вставил Корнев. – У Успенского и Златовратского хоть талантливо, а у других уж так серо…
– Ну можно ли так говорить? – вспыхнул студент. – Тебе серо читать, а им жить в этом сером надо. Что ж, оно само посветлеет, если мы от него отворачиваться станем? Разве удовольствия искать в таком чтении? Материал здесь важен, и всякий хорош, лишь бы верный был. В этом отношении «Отечественные записки» и ставят вопрос в том смысле, в каком я выше говорил, – никакой формы не надо, суть давай, – потому что речь здесь идет о решении самой насущной в жизни государства задачи. Здесь нечего разводить эстетику: нужно знание… Для человека с хорошими мозгами в деревне первая пища.
– Да нет… что ж? я, собственно, поехал бы, – согласился Корнев и покосился на вошедшую мать.
Анна Степановна покачала головой.
– Да уж поезжай, – вздохнула она и, обратившись к Карташеву, спросила: – Где-то моя коза? Вы не бачили часом?
Сердце Карташева екнуло, и он ответил, стараясь придать своему голосу свободный тон:
– Она на бульвар ушла.
– Вертит тому Рыльскому голову, – покачала головой Анна Степановна. – И в кого она уродилась.
– Не в вас? – спросил племянник.
– Не знаю, я и молодой не була…
Анна Степановна скользнула взглядом по сыну и закончила:
– Так сразу на своего наскочила.
– А за ним уж и весь свет пропал?
Анна Степановна только подняла подбородок и добродушно махнула рукой.
Корнева с Рыльским возвращались с бульвара, пропустив далеко вперед Семенова с хозяйской дочкой. Долба еще на бульваре отстал, встретив какого-то знакомого.
– Слушайте, Рыльский, как вам нравится Аглаида Васильевна? – спрашивала своего спутника Корнева.
– Умная баба, ловко за нос водит своего сына.
– Знаете, я не понимаю Карташева: в нем какая-то смесь взрослого и мальчика.
– Я думаю, в этом и выражается ее влияние: она давит его и умом, и сильным характером.
Корнева весело рассмеялась и проговорила:
– Посмотрите на Семенова, как он тает.
Смеялась ли Корнева, сердилась – все у нее выходило неожиданно, всегда искренне и непринужденно.
Рыльский взглянул на Семенова и усмехнулся.
– Семенов! – позвала Корнева.
Семенов оглянулся, сразу собрался и деловито зашагал к отставшим.
– Вам нравится ваша дама? – тихо спросила Корнева, когда он подошел к ней.
– Вот дурища! – весело, по секрету сообщил Семенов. Все трое фыркнули. – Я…
– Идите, идите…
Семенов зашагал назад к своей даме.