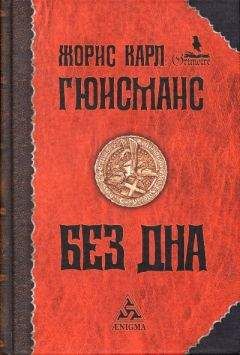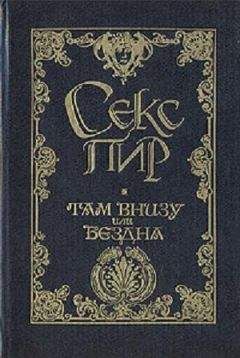Жорис-Карл Гюисманс - В пути
И в движениях этого монаха, словно палач готовившегося постричь осужденную, для которой близился час искупления, предстала тогда собравшейся любопытной толпе грозная красота невинности, уподобляющейся преступлению, возлагающей на себя возмездие неведомых, даже непостижимых ею грехов, и содрогнулись объятые ужасом пред карающей видимостью сверхчеловеческого правосудия присутствующие, когда епископ забрал в руку волосы, откинул их на лоб и потянул к себе. Точно стальные молнии засверкали в сумраке дождя.
Слышался только скрип ножниц, погружавшихся, среди мертвого безмолвия храма, в руно, отсекаемое их лезвиями. Потом все смолкло. Дом Этьен открыл руку, и длинными черными нитями упал на колени его этот дождь.
Вздох облегчения пронесся, когда священники увели новобрачную, странную в своем влачащемся платье, с неубранной головой и голым затылком.
Вскоре появилась та же самая процессия, но исчезла невеста в белом платье, превратясь в инокиню в черной рясе.
Она поклонилась траписту и встала на колени между матерью и сестрой.
И пока игумен молил Господа благословить слугу свою, церемониарий и диакон принесли из жертвенника возле алтаря корзину, в которой уложены были под увядшими лепестками роз черный кожаный пояс, символизирующий преграду похоти, по мнению отцов церкви, обитающей в области чресл, наплечник, знаменующий жизнь Распятого в мире, и вуаль, означающую уединенное житие, сокрытое во Господе. Прелат возвестил послушнице смысл символов, взял горящую свечу в стоящем перед ней паникадиле и, протянув ее постриженной, возгласил единым речением существо вручаемой эмблемы: accipe, charissima soror, lumen Christi… [35]
Затем один из священников с поклоном поднес Дом Этьену кропило, и тот словно усопшую крестообразно окропил молодую девушку освященною водой. За сим игумен сел и заговорил тихо, спокойно, даже без рукодвижений.
— Не взирайте вспять, — сказал он, — и не жалейте ни о чем; чрез уста мои повторяет вам Иисус обещание, некогда данное им Магдалине: «благую избираешь часть, которая не отымается от тебя». Помыслите также, дочь моя, что, оторвавшись от вечного ребячества суетных трудов, вы исполните полезное дело здесь, на земле. Вы сотворите милосердие наиболее возвышенное, искупите других, помолитесь за тех, кто не молится вовсе, и по мере сил ваших поможете загладить ненависть, с которой мир восстает на Спасителя. Страдайте, и счастье дастся вам. Возлюбите небесного Супруга вашего и вы увидите, как кроток Он к избранницам своим! Верьте мне, столь велика Его любовь, что не дожидаясь, пока очиститесь вы смертью, Он вознаградит вас за ваши жалкие лишения, за ваши скудные тяготы. Еще до смертного часа осыплет Он вас своими милостями, и избыток восторгов настолько переполнит меру ваших сил, что вы будете молить Его о ниспослании вам кончины!
И понемногу воодушевился старый монах, вернулся к словам, сказанным Христом Магдалине, указал, что Иисус возвестил в них превосходство созерцательных орденов над остальными. Преподал краткие советы, подчеркнул необходимость уничижения и бедности, являющих две великие ограды — как вещает Святая Клара — жизни иноческой. Благословил в заключение послушницу, которая, приблизившись, поцеловала его руку и отошла на свое место; помолился, воздев глаза к небу, чтобы Господь принял деву, обрекающую себя на заклание за грехи мира, и, встав, запел «Те Deum».
Все поднялись, и в преднесении креста и свечей шествие вышло из церкви на двор. Дюрталь мог вообразить себя вдали от Парижа, перенесенным вдруг в глубину веков.
Двор, окруженный строениями, был окаймлен против ворот высокой стеной, посреди которой виднелась двухстворчатая дверь. По шести тощих сосен колебались в воздухе с каждой стороны. Пение доносилось из-за стены.
Выступив вперед, послушница, склонив голову, остановилась одна со свечей в руке перед запертой дверью. Опершись на посох, неподвижно, стоял в нескольких шагах от нее игумен трапистов.
Дюрталь разглядывал их. Молодая девушка, такая обыденная в подвенечном наряде, стала теперь очаровательной. С робкой прелестью обрисовывалось ее тело. Умолкли линии, слишком говорливые под светским платьем, и слагались под иноческим саваном в наивный рисунок ее очертаний. Она точно помолодела, как бы вернулась к незаконченным формам детства.
Чтобы лучше рассмотреть ее, Дюрталь подошел ближе. Пытливо наблюдал ее лицо, но оно было немым в ледяном покрове головного убора; казалось, что она унеслась от света с сомкнутыми глазами, и лишь в улыбке блаженных губ сквозила жизнь.
Иное, чем в капелле, впечатление производил коренастый краснолицый монах. Все тот же мощный стан, та же багровая кожа. Но вульгарное выражение черт лица искупалось глазами цвета голубой воды, бьющей из меловой почвы, — воды без отблесков и ряби, — глазами невероятно чистыми, скрадывавшими грубость виноградаря, каким казался он издали.
«Бесспорно, что душа в этих людях, — все думал Дюрталь, — преображает их лица, и мерцание святости загорается в этих глазах, запечатлевается на их устах, грани которых прикасается душа, глядящая вне тела».
Песнопения вдруг смолкли за стеной. Девушка ступила вперед, сложенными перстами постучала в дверь и слабеющим голосом пропела:
— Aperite mihi portas Justitiae: Ingressa in eas confitedor Domino [36].
И двери распахнулись. Открылся большой двор, убитый щебнем, в глубине замкнутый строением, и, стоя полукругом, возгласила вся обитель с черными книгами в руках:
— Наес porta Domoni: Justi intrabant in eat [37].
Послушница сделала еще шаг до порога и прозвенела своим тонким голосом:
— Ingrediar in locum tabernaculi ei adputabilis, usque ad domum Dei [38].
А бесстрастный хор монахинь отвечал:
— Наес est domus Domini, firmiter aedificata: Bene fundata est supra firman petram [39].
Дюрталь торопливо оглядел их лица, чуждому глазу открытые лишь на несколько минут и только при совершении таких обрядов. Он увидел как бы выставку трупов в черных саванах. Все бескровные, с матовобледными щеками, лиловыми веками и серыми губами. Все изнеможденные, исхудалые от молитвы и лишений. Большинство горбилось, даже молодые. О, суровая истомленность этих бедных тел! — воскликнул мысленно Дюрталь.
И прервал поневоле свои размышления. Преклонив колена на пороге, невеста Христова повернулась теперь к Дом Этьену и совсем тихим голосом запела:
— Наес requies mea in saeculum saeculi: Hic habitado quoniam elegi eam [40].
Монах сложил митру и посох и произнес:
— Confirma hoc, Deus, quod op ratus est in nobis [41].
A послушница пробормотала:
— A templo sancto tuo quod est in Jerusalem [42].
Прежде, чем снова облачиться в митру и вооружиться посохом, прелат помолился Богу всемогущему, чтобы излилась роса благословения Господня на служанку его, и сказал, указывая на молодую девушку монахине, которая, отделившись от группы сестер, приблизилась к порогу:
— Мы вручаем в ваши руки, госпожа моя, эту новую невесту Божию, поддержите ее в святом решении, которое торжественно засвидетельствовала она, испрашивая позволения обречь себя в жертву Всевышнему и посвятить жизнь свою славе Господа нашего Иисуса Христа. Руководите ею на пути божественных велений, наставляйте в исполнении советов святого Евангелия и в соблюдении монашеского чина. Готовьте ее к вечному единению, к которому призывает ее небесный Супруг, и в благополучном приращении стада, вверенного заботам вашим, почерпните новый источник ваших материнских попечений. И мир Господень да пребудет с вами!
Этим кончился обряд. Одна за другой исчезали за стеной монахини и молодая девушка последовала за ними, точно жалкая собака, которая поодаль плетется за новым хозяином, понурив голову.
Захлопнулись створчатые двери.
В оцепенении стоял Дюрталь, глядя на белого епископа, на спины духовенства, которое поднималось в церковь, чтобы служить вечерню. А за ними брели с плачем мать и сестра послушницы, закрывая носовыми платками лицо.
— Ну, что? — спросил, взяв его под руку, аббат.
— Сцена эта, бесспорно, — самый захватывающий вызов смерти, и удивительна эта девушка, которая зарывается заживо в самую страшную могилу, в могилу, где страждет еще тело!
Я вспоминаю, как сами вы рассказывали мне о тисках монастырского устава. И дрожу при мысли о непрерывной молитве Поклонения, о зимних ночах, когда такого ребенка будят от сладости первого сна и ввергают в сумрак церкви, чтобы одиноко молиться там коленопреклоненной на плитах пола в мраке ледяных часов, не поддаваясь слабости и страху.
Что происходит в беседе с Неведомым, что совершается в этом «наедине» со тьмой? Достигает ли она самоотчуждения, уносится ли от земли и на пороге Вечности ожидает ли непостижимого Супруга, или же, бессильная, сгорает в самозабвении, пребывает, душой пригвожденная к земле?