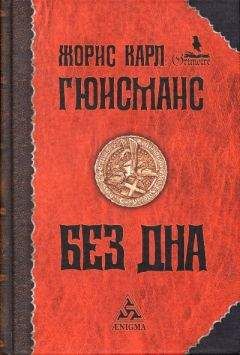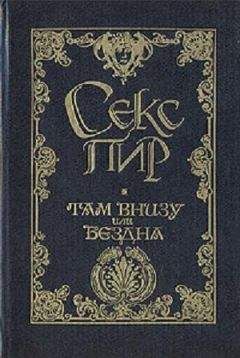Жорис-Карл Гюисманс - В пути
Они сохранились там неприкосновенными, как могли вы убедиться, хотя следует упомянуть, что монахини ордена после нее пользовались еще наставлениями Дом Шлитта, одного из умудреннейших в этой области иноков.
После кончины принцессы, в 1824 г., было засвидетельствовано, если не ошибаюсь, что труп ее издавал благоухание святости; и в некоторых случаях сестры взывают к ее заступничеству, хотя она и не канонизирована. Например, бенедиктинки улицы Месье обращаются к ней, когда что-либо теряют, и опыт учит, что никогда не бывает тщетной их молитва, и почти сейчас же отыскивается пропажа. Ходите туда, продолжал аббат, если вы так любите этот монастырь; постарайтесь увидеть его в часы благолепия.
Священник встал и взял «Духовную Седьмицу», лежавшую на столе.
— Послушайте, — сказал он, перелистывая ее, и затем прочел, — «в воскресенье в три часа вечерняя служба; пострижение, которое совершит высокопреподобный отец дом Этьен, игумен Великой Траппы, и молитва о спасении».
— Знаете, обряд этот мне чрезвычайно любопытен!
— Я, вероятно, буду тоже.
— Значит, мы можем сойтись в капелле.
— Превосходно.
После молчания аббат, улыбаясь, заговорил:
— Пострижение чуждо теперь веселости, которой оно отличалось в XVIII веке в некоторых общинах бенедиктинок, между прочим, в аббатстве Бурбург во Фландрии.
И в ответ на вопросительный взгляд Дюрталя продолжал:
— О, да! Оно совершалось беспечально, или было проникнуто, если угодно, печалью особого рода. Накануне перед постригом губернатор города представлял испытуемую игуменье Бурбурга. Ее угощали хлебом и вином, которых она отведывала в самом храме. На другой день она отправлялась в роскошных одеждах на бал, на котором присутствовали все монахини обители в полном составе. Там она танцевала, потом просила благословения, после чего ее отводили под звуки скрипок в церковь, где ее принимала под свою власть аббатисса. В последний раз смотрела она на мирские радости, обреченная остаток дней своих провести заточенною в монастыре.
— От такой радости веет могилой, — заметил Дюрталь. — Я думаю, встарь встречались причудливые иноческие обычаи общины?
— Без сомнения, но это сокрыто во мраке времен. Мне вспоминается, однако, действительно странный орден, существовавший в XV веке во славу святого Августина, именовавшийся орденом сестер святого Маглуара, которые обитали в Париже на улице Сен-Дени. По сравнению с другими монастырскими темницами он был замечателен совершенно обратными условиями поступления. Ищущая пострига должна была поклясться на Святом Евангелии, что она утратила свою девственность. При этом не довольствовались ее клятвой, но свидетельствовали ее и объявляли недостойной приема, если она оказывалась невинной. Уверялись равным образом, что она не обесчестила себя нарочито, чтобы проникнуть в обитель, но предавалась распутству, не за страх, а за совесть, прежде, чем искать прибежища под монастырским кровом.
Очевидно, мы здесь имеем дело со стадом раскаявшихся блудниц, и добавлю, что они подлежали свирепому уставу. Их бичевали, ввергали в подземные темницы, налагали суровейшие посты. Трижды в неделю они бывали обычно на исповеди, вставали в полночь, их подвергали неустанному надзору, сопровождали даже в укромнейшие места. Истязания длились непрерывно, и заточение было беспощадным. Нечего прибавлять, что иночество это вымерло.
— И не намерено, конечно, возрождаться! — воскликнул Дюрталь. — Так, значит, до воскресенья, аббат, на улице Месье, решено?
Священник согласился, и Дюрталь вышел, погруженный в затейливые думы о монастырских орденах. «Следовало бы основать аббатство, — размышлял он, — где бы свободно можно было работать в хорошей библиотеке. Малочисленная братия, сносная пища, право курить, позволение прогуляться по набережной в бесцельном блуж-даньи. — И он рассмеялся: — Но тогда это не монастырь! Или в лучшем случае монастырь доминиканцев с зваными обедами в городе и кокетством проповедников!»
VIII
Направляясь утром в воскресенье на улицу Месье, Дюрталь углубился в раздумье о монастырях. «Бесспорно, — размышлял он, — лишь они остались непорочны в непроглядной нечистоте времен, сохранили истинную связь с небом. Они посредники между небом и землей. Я признаю, конечно, необходимость оговорки, что это относится лишь к орденам затворническим, пребывающим, по мере возможности, в бедности…»
Прибавив шагу, он задумался о женских общинах и пробормотал:
— Вот еще одно изумительное доказательство несравнимого гения церкви: ей удалось соорудить женские ульи, где, живя бок о бок, женщины не досаждают друг другу и беспрекословно повинуются воле другой женщины. Это неслыханно!
Наконец-то! И, боясь опоздать, Дюрталь поспешил на двор бенедиктинок, взбежал на паперть маленькой церкви и толкнул дверь. Недоумевающе остановился на пороге, ослепленный сиянием капеллы, залитой огнями. Повсюду горели лампады, а над толпой алтарь пламенел целым лесом свечей, на фоне которого, словно на золоте иконостаса, выступала фигура епископа в багряно-белом облачении.
Работая локтями, Дюрталь протолкался сквозь толпу и заметил аббата, сделавшего ему знак. Подойдя, он занял стул, оставленный ему священником, и стал разглядывать игумена Великой Траппы, окруженного духовенством в ризах, отроками хора в красных или голубых одеждах, сопровождаемого трапистом с голым черепом в венчике волос, державшим деревянный посох, на рукоятке которого был вырезан маленький монах.
С игуменским крестом на груди Дом Этьен, облаченный в белую мантию с широкими рукавами и золотой кистью на капюшоне, увенчанный низкой митрой, меровингского образца, своим коренастым сложением, седой бородой, ярким цветом кожи сперва произвел на него впечатление старого крестьянина, загоревшего под солнцем на работах в винограднике. Он казался простодушным человеком, который тяготится митрой, смущен воздаваемыми почестями.
В воздухе веял едкий аромат мирры, опаляющий обоняние, как индейский перец обжигает рот. Толпа встрепенулась. За отдернутой завесою решетки монахини запели, стоя, гимн святого Амвросия Медиоланского, и полным благовестом зазвонили колокола аббатства. В небольшом проходе, ведущем на хоры с паперти и обрамленном живою изгородью склонившихся женщин, появились крестоносец и свеченосцы, а за ними послушница в наряде новобрачной. Темноволосая, хрупкая, очень маленькая, смущенно выступала она, потупив глаза, между матерью и сестрой. Дюрталю на первый взгляд она показалась ничтожной, не слишком красивой, слишком обычной. Его бессознательно задело это необычное для свадьбы отсутствие жениха, и, словно ища его, он невольно оглянулся.
Преодолевая волнение, постригаемая прошла корабль церкви, проникла на хоры и слева перед большой свечей преклонила на аналое колена, сопровождаемая сестрой и матерью, как бы олицетворявшими ее подружек.
Дом Этьен поклонился алтарю и, поднявшись до верхней ступени, сел в приготовленное там обитое красным бархатом кресло.
Тогда один из священников подвел к нему молодую девушку, и одиноко опустилась она перед монахом на колени.
Дом Этьен хранил недвижимость идола Будды с соответственным жестом, подняв кверху один палец, тихо спросил:
— Чего просите вы?
Она заговорила чуть слышно:
— Отец мой, чувствую я, что обуревает меня пламенное желание посвятить себя Богу, сочетаться жертвенно с Господом нашим Иисусом Христом, приносимым на престолах наших, на заклание, и отдать жизнь свою непрерывному поклонению Святым Дарам, следуя чину, установленному достославным отцом нашим, святым Бенедиктом, я униженно молю у вас благодати святого одеяния.
— Я охотно дарую вам ее, если вы убеждены, что сможете жить, как подобает жертве, посвятившей себя Святым Дарам.
Она ответила более уверенным голосом:
— Уповаю, что подкрепит меня в бесконечной благости своей Спаситель мой Иисус Христос.
— Да ниспошлет вам Господь сил, дочь моя, — сказал прелат. Встал, обратился к алтарю и, с обнаженной головой, преклонив колена, начал песнь «Veni Creator» [34], подхваченную голосами всех монахинь за железными узорами решетки.
Потом снова возложил на себя митру и начал молиться, а под сводами разносилось пение псалмов. Послушница, которую отвели на ее прежнее место к аналою, поднялась, поклонилась алтарю и, подойдя между двумя своими подружками к севшему игумену трапистов, коленопреклоненная склонилась у его ног.
Обе провожавшие сняли с нее подвенечную фату и флердоранжевый венец, распустили ленты волос, один из священников разостлал салфетку на коленях прелата, а диакон на блюде поднес ему длинные ножницы.
И в движениях этого монаха, словно палач готовившегося постричь осужденную, для которой близился час искупления, предстала тогда собравшейся любопытной толпе грозная красота невинности, уподобляющейся преступлению, возлагающей на себя возмездие неведомых, даже непостижимых ею грехов, и содрогнулись объятые ужасом пред карающей видимостью сверхчеловеческого правосудия присутствующие, когда епископ забрал в руку волосы, откинул их на лоб и потянул к себе. Точно стальные молнии засверкали в сумраке дождя.