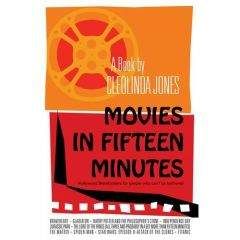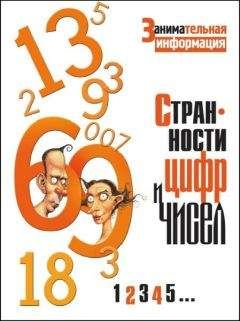Дэвид Лоуренс - Радуга в небе
Несколько мгновений тишины и спокойствия. А потом постепенно напряженное сопротивление его ослабло, и он устремился к ней. Она витала перед ним и вне его, недостижимая. Но он дал себе волю, преодолел себя, ощутив подспудную силу желания, жажду быть с ней, смешаться с ней, потеряв себя, затеряться в ней. Он сделал шаг, приблизился.
Кровь приливала волнами желания. Он стремился к ней, ей навстречу. Вот она, но если бы только можно было ее достичь! Реальная она, что была вне его и вне его пределов, поглотила его. Слепо, сокрушенно он стремился вперед, ближе, ближе, добиваясь собственной цельности, завершенности, чтобы быть проглоченным тьмой, дарующей эту цельность. Если бы только удалось коснуться пылающей сердцевины тьмы, воистину сокрушить себя, гореть до тех пор, пока они не вспыхнут в обоюдном пламени завершения, полном, до конца.
И завершение это теперь, после двух лет брака, показалось им чудеснее, чем раньше. Они вступили в новую сферу существования, приобщились к иной жизни, пройдя конфирмацию. Ноги их ступили на землю знания, и шаги их теперь осветило откровение. Они шли, и путь их был прекрасен, и мир вокруг отзывался эхом откровения. Они были самозабвенно счастливы. Все потеряв, они все обрели. Новый мир открылся им, и оставалось только его исследовать. Они ступили в преддверье новых далей, где каждый шаг был огромен и требовал напряжения, и обоюдности, и усилий, при этом давая полную свободу. Она служила преддверием ему, а он — ей. И наконец они распахнули двери — каждый из них для другого — и встали на пороге, друг напротив друга, и лучи света, падавшие сзади, играли на их лицах, и это было преображением, прославлением, приятием.
И тот же свет преображения горел теперь в их сердцах. Он жил своей жизнью, как прежде, она — своей, в остальном мире как будто ничто не изменилось. Но для них двоих осталось теперь это вечное чудо преображения.
Он не стал знать ее лучше, точнее, и все-таки теперь он узнал ее всю. Польша, муж, война — все это для него было по-прежнему за семью печатями. Он не понимал характера этой иностранки — полупольки-полунемки. Но он ее знал, знал ее суть, знал не понимая. То, что она говорила, рассказывала, для него оставалось непонятной фигурой речи. Но саму ее, всю как есть, он знал — сильная, ясная, она была ему близка, он приветствовал ее и был с нею. Что такое память, в конце концов, как не реестр тех или иных возможностей, так и не воплотившихся? Что значил для нее Павел Ленский, разве не являлся он невоплощенной возможностью, в то время как он, Брэнгуэн, стал реальностью и воплотился? Разве важно, что родителями Анны Ленской стали Лидия и Павел? Единый Господь был ей отцом и матерью… Он проявился в этой супружеской паре, хоть и неведомо для них.
А теперь Он говорил с Брэнгуэном и Лидией Брэнгуэн, когда они были вместе. Когда они наконец взялись за руки, дом их стал прочен и стал приютом Божьим. И они возрадовались.
Дни катились по-прежнему. Брэнгуэн уходил на работу, жена его нянчила младенца и, как могла, помогала на ферме. Они не думали друг о друге, о чем тут думать? Но стоило ей коснуться его, и мгновенно приходило знание: она с ним, она рядом, она преддверье и выход, и хоть она витала над ним и вне его, с нею вместе он когда-нибудь достигнет этого «вне». Где оно? Какая разница? Теперь он всегда откликался. Когда она звала его, он отвечал, как и она отвечала на его зов — раньше или позже.
И Анна между ними наконец-то успокоилась душой. Переводя взгляд с отца на мать, она уверялась в своей безопасности и в то же время — свободе. Она играла между столпом огненным и столпом облачным без трепета, ибо и по правую, и по левую ее руку царила прочная уверенность. К ней не взывали теперь, надеясь, что она из последних своих детских сил поддержит, скрепит треснувший свод. Отец и мать соединились для небесного блаженства, она же вольна играть в свои детские игры где-то внизу, меж ними.
Глава IV
Девичество Анны Брэнгуэн
Когда Анне исполнилось девять лет, Брэнгуэн отправил ее в школу для девочек в Коссетее. И она стала бегать туда вприпрыжку и пританцовывая, то и дело, неизвестно почему, вдруг пускаясь в пляс, как это было ей свойственно, своевольная и упрямая, огорчавшая престарелую мисс Коутс полным забвением всяческих приличий и непочтительностью. Анна только посмеивалась над мисс Коутс и, любя старушку, с детской щедростью ей покровительствовала.
Девочка была застенчивой и одновременно буйной. К людям ничем не примечательным она испытывала странное пренебрежение, относясь к ним доброжелательно, но свысока. Она была застенчива и очень страдала, если окружающие не дарили ее своей симпатией. И при этом ей дела не было ни до кого, кроме матери, которую она не без некоторой враждебности, но все еще боготворила, и отца, которого любила и которому покровительствовала, хоть и зависела от него. С этими двумя, матерью и отцом, она еще считалась. Что же до всех других, то их она, в общем, не замечала, внешне проявляя к ним лишь добродушную снисходительность. Она пылко ненавидела в людях уродство, навязчивость и, как ни странно, высокомерие. В детстве она была по-тигриному гордой и мрачной. Благодеяния она могла даровать, но принимать их от кого-либо помимо отца и матери она не могла. Людей, приближавшихся к ней слишком близко, она начинала ненавидеть. Как дикий зверек, она предпочитала держаться на расстоянии и не верила в тесную дружбу.
В Коссетее и Илкестоне она всегда оставалась чужой. Знакомых у нее было полно, подруг же не было. Мало кто из знакомых для Анны что-то значил. Каждый из них был для нее словно скотина в стаде, неотличим в общей массе. И людей она не принимала всерьез.
У нее было два брата — Том, темноволосый, маленький, капризный, с которым она тесно общалась, но не сближалась, и Фред, белокурый, чуткий, которого она обожала, не видя в нем, однако, самостоятельной личности. Она была слишком замкнута в себе, существуя в собственном мире, чтобы замечать хоть что-то за его пределами.
Первым, кого она заметила, увидев в нем живого человека, имевшего несомненное право на существование, был барон Скребенский, друг матери, как и она, польский репатриант, который после рукоположения получил от мистера Гладстона небольшой сельский приход в Йоркшире.
Когда Анне было лет десять, они с матерью провели несколько дней в гостях у барона Скребенского. Он скучал в своем красно-кирпичном доме при церкви. Заработок его как сельского викария составлял сотни две в год, однако приход у него был большой: на территории, отданной на его духовное попечение, расположилось несколько угольных шахт, вокруг которых жили люди нового для него типа — грубые и неотесанные. Отправившись на север Англии, он ожидал, что простолюдины отнесутся к нему, аристократу, с уважением. Но встретили его грубо, проявив даже жестокость. Понять, почему это так, он не мог. Он остался истым аристократом, и единственное, чему научился, это избегать своих прихожан.
На Анну он произвел сильное впечатление. Он был небольшого роста, с лицом морщинистым и довольно помятым и голубыми глазами, глубоко посаженными и очень блестящими. Его жена, женщина высокая и худая, происходила из хорошего рода польских дворян, кичившихся своим аристократизмом. Барон так и не научился правильному английскому, потому что с женой они жили крайне замкнуто, затерянные в чужом негостеприимном краю, а друг с другом говорили только по-польски. Его очень огорчил хороший, с еле заметным мягким акцентом английский миссис Брэнгуэн и еще больше огорчило, что дочь ее совсем не знала польского языка.
Анне нравилось смотреть на него. Нравился большой, новый, со множеством пристроек дом викария, возвышавшийся пустынно и голо на своем холме. Открытый всем ветрам, дом казался суровым и гордым по сравнению с фермой Марш. Барон без умолку говорил по-польски с миссис Брэнгуэн, бешено жестикулируя, голубые глаза его метали молнии. Анну эти резкие, летящие точно в цель взмахи словно завораживали. В этой пылкой экстравагантности ей мерещилось что-то родное. Она решила, что познакомилась с чудесным человеком. Она стеснялась его, но ей нравилось, когда в разговоре он обращался к ней. Рядом с ним она чувствовала себя свободнее.
Она не помнила, каким образом ей стало известно, что он является мальтийским рыцарем. Не то она увидела его звезду или крест, или, может быть, это был орден, но в ее сознании как символ запечатлелся некий знак отличия. И для ребенка барон стал воплощением подлинной жизни, того сияющего великолепием мира, где обитают и творят свои благородные деяния короли, вельможи и принцы, в то время как королевы, принцессы и знатные дамы заняты тем, что поддерживают благородные устои тамошнего миропорядка.
В бароне Скребенском она увидела человека, каким тот должен быть, он также отнесся к ней с интересом. Но когда они расстались, образ его потускнел, став лишь воспоминанием. Однако воспоминание это продолжало в ней жить.